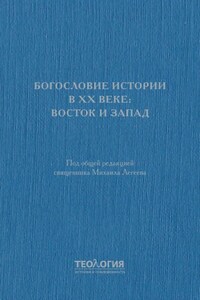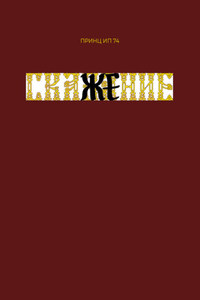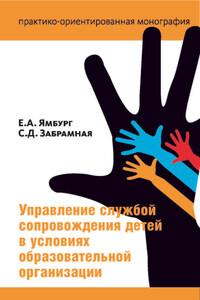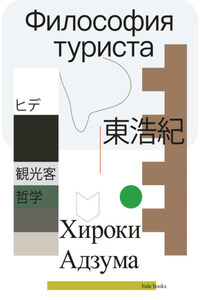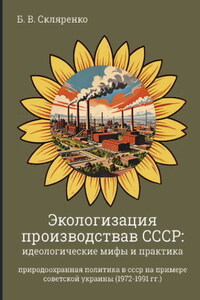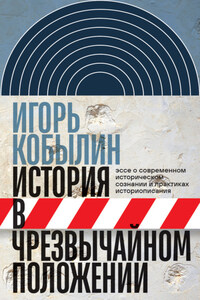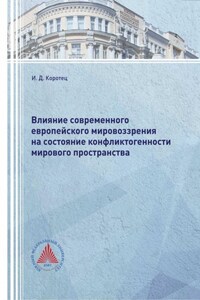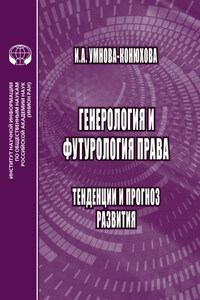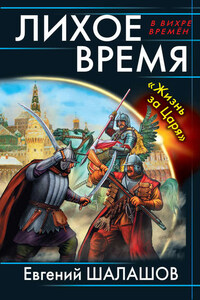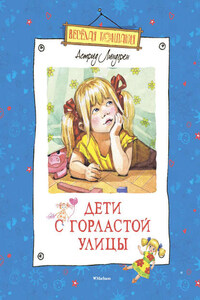XX век ознаменовался эпохальными сдвигами общеисторического характера. Эти процессы пробудили как в христианской, так и в секулярной среде острое внимание к самому феномену «истории», поиску её смыслов, характера, внутренних связей и отношений. На этом фоне формируется новое явление в научно-богословской мысли – особый историко-богословский дискурс, тесно интегрированный с целым комплексом направлений в современной богословской мысли – от экклезиологии до миссиологии и апологетики.
Однако корни современного богословия истории уходят в древность. Основанием для богословия истории, как и для всякого иного «богословия», является Священное Писание. Именно в нём можно обнаружить весь комплекс позднейших тем и векторов мысли, которые будут формировать контуры богословия истории как в святоотеческой письменности, так и в современной мысли. Вершиною и «квинтэссенцией» библейского богословского историзма выступают тексты ап. Иоанна Богослова, его Евангелие, послания и, особенно, Апокалипсис – откровение о будущей истории мира и Церкви в их отношениях с Богом.
Как активный научно-богословский дискурс богословие истории зарождается со времён раннехристианских апологетов и учителей Церкви кон. II – нач. III вв. Целый ряд как ранних, так и позднейших святых отцов уделяли богословию истории важное значение в своих трудах; особенно в этом отношении можно выделить имена свт. Мелитона Сардийского, сщмч. Иринея Лионского, Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена, сщмч. Ипполита Римского, блж. Августина Иппонского, прп. Максима Исповедника. У всех них мы встречаем собственные акценты, связанные, как правило, с той тематикой, которая была для каждого из них ключевой.
Поздневизантийские авторы, такие как прп. Симеон Новый Богослов, свт. Григорий Палама и св. Николай Кавасила, оказываются сфокусированы на богословии человека – в их трудах ключевой становится тема христианского гуманизма, или, в современной терминологии, «теогуманизма»[1], «человека как Церкви»[2]. В фокусе такого внимания богословие истории (понимаемое как богословие всеобщей истории, занятое поиском её закономерностей и поиском связей Бога, Церкви и мира на путях истории) отходит на второй план или, вернее будет сказать, оно проявляет себя в специфической плоскости – аспекте личной истории, духовного развития отдельного человека, рассмотренного в самом себе. Сферы общественных процессов и всеобщей истории в целом остаются за кадром внимания этой эпохи[3].
Отдельный вклад вносит в развитие богословия истории русская церковная мысль. Уже свт. Иларион Киевский в XI в. предлагает оригинальный взгляд на исторический процесс; позднее, начиная с конца XV в., в русской церковной мысли появляются и развиваются историософские концепции, связанные с ролью в историческом процессе отдельного народа, отдельной общественно-государственной формации и, наконец, отдельной Поместной Церкви. Идеи «Третьего Рима», «Святой Руси», «государства как Церкви», отчасти сменяя друг друга, отчасти взаимодействуя, основываются на ключевой интенции – проблеме локальной истории, её собственного внутреннего развития и её отношения с историей всеобщей, с одной стороны, и историей отдельного человека, отдельной общины, отдельного «мира», с другой. Уже в конце этого периода в другой части православного мира греческие отцы-просветители XVIII в. своими трудами готовят почву для будущих евхаристических и эсхатологических концепций, – в церковной мысли, эпицентром которой становится «Константинополь», вызревает «эсхатологический» подход к истории.