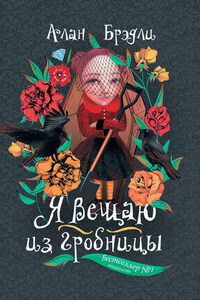Пепел падает так тихо, будто кто-то трясёт серое покрывало над землёй. Он ложится на ресницы, на расселины в обугленном брусе, на распоротые крыши, на лезвие моего ножа. Пахнет мокрой золой и железом – общий запах всякой бойни. Я дышу коротко и поверхностно, чтобы не закашляться, и всё равно горло дерёт, как наждаком.
– Лисса… – тянет кто-то за подол. – Он истекает…
Мальчишка, бледный, с пеплом на лбу, показывает туда, где на лестнице бывшего амбара лежит мужчина, у которого половина ребер будто нарисована снаружи. Я ничего не отвечаю, кивок, ладонь на его плечо, чтобы отошел и опускаюсь на колени. Сухожилия в моих пальцах щёлкают от переутомления. С утра я не ела. С позавчерашней ночи не спала.
Я кладу левую ладонь чуть ниже грудной клетки раненого, правую ему к виску. Слышу свою кровь в ушах. Слышу его. Боль всегда звучит, у каждого свой тембр. У этого человека рваная, мясная, с металлическим привкусом в языке. Я втягиваю воздух и впускаю. Тепло, липкое и тяжёлое, как расплавленный воск, течёт ко мне под кожу. Из глубины живота поднимается тошнота. На секунду мир плывёт.
– Терпи, – говорю ему и себе.
Слепляю края разошедшейся плоти, стягиваю сосуды. В какой-то момент меня начинает трясти от слабости, от того, что его раны, судороги, страх проходят через мои нервы, но я довожу дело до конца, как учила мать: «Закрой, что открыл, и отпусти, что принял». Закрываю швом, который больше похож на тонкую линию, чем на нитку. Отпускаю боль в землю, под колени, в эту грязную, обожжённую, но всё ещё живую землю.
Он дышит. Слава богам, дышит.
Меня тоже мутит, но я сжимаю зубы и встаю. Дальше – девочка с жутко вывернутым локтем. Рот её в сизых отпечатках, должно быть, ягоды крала ещё до набега. Я одной рукой поправляю сустав, краем рукава вытираю ей щёки. Она всхлипывает и молча кивает.
– К реке, – говорю мальчишке. – Воды чистой принеси. И возьми у тётки Варены бутыль с уксусом.
Он уносится, как ошпаренный. Я слышу, как где-то гремят котелки, как кто-то ругается на Яровита за то, что он «опять полез не туда». Слышу тихие молитвы, которые произносит соседка, качая пустую колыбель. Слышу хруст, кто-то наступил на стекло. И поверх всего слышу своё собственное сердце: тук, тук, тук. Слишком громко, быстро. Я знаю этот ритм. «Не перегни, – сказала бы мать, если б была жива. – Накапливай магию, как пруд, и сливай вовремя. Иначе потонешь».
Я сажусь на бревно, на секунду прижимаю лоб к коленям и считаю до семи. Счёт – единственное, что возвращает меня в тело, когда чужая боль продолжает плавать под кожей. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ладно. Я ещё держусь.
Сбоку пахнет горелым мёдом – это у кого-то в доме сварился запас. Я мазком взглядом отмечаю: там живы, вон там поздно, тут можно вытянуть, только быстро. Иду. Делаю. Пальцы в крови, то моей, то чужой – разницы мало.
Когда я наклоняюсь над подростком, вижу, что у него шея зажата между брусом и лестницей, и глаза выпирают из орбит. В груди что-то взвизгивает тонко, будто я случайно наступила на невидимую струну. Тональность боли меняется вокруг, и я чувствую… Не эти десятки тел, что рядом, а чужое. Дальнее.
Я замираю, как собака, поймавшая след. Снимаю брус, освобождаю шею, ставлю пальцы на позвонки… раз, два, позвоночник встаёт на место, мальчишка кашляет, воздух с визгом ломится в лёгкие. Он жив, но моё внимание уже не с ним.
Боль откуда-то не отсюда.
У каждой боли есть запах. Трактирщик, когда я это сказала, ржал, пока не увидел, как я вытянула его жену из послеродовой. Но я правда чувствую: у ножевой – железо и мышиная сырость, у огня – смола и горький сахар, у перелома – мокрый лед. А это… Это как горячая ртуть. Как гроза в сухом небе. Как глина, которую поставили в печь и забыли. И эта боль зовёт меня по имени.