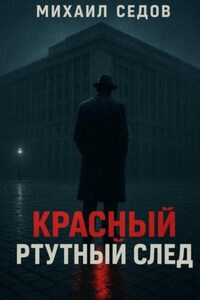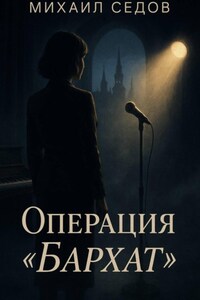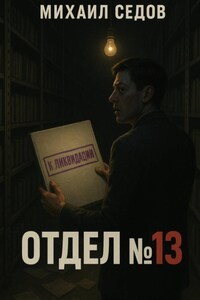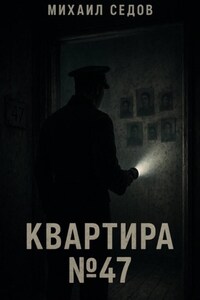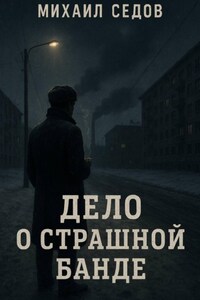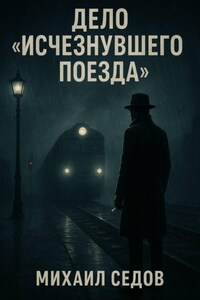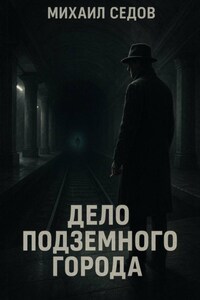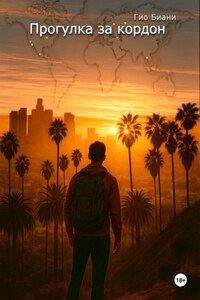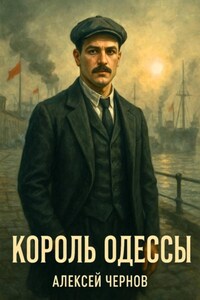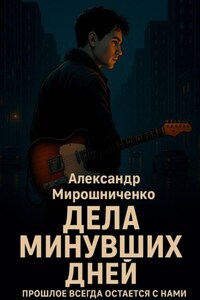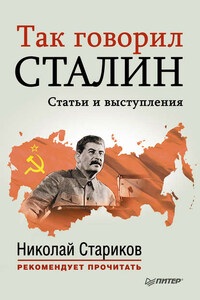Шепот, рожденный в реторте закрытого города
Сырая октябрьская морось цеплялась за ветровое стекло «Волги», и дворники, скрипнув, лениво смахивали ее в стороны, оставляя мутные дуги. За окном проплывал уставший подмосковный пейзаж: почерневшие от влаги избы, скелеты березовых рощ, ржавые остовы какой-то сельскохозяйственной техники, брошенной в раскисшем поле. Ржавчина. Она была повсюду. Въелась в металл, в землю, казалось, даже в низкое, свинцовое небо. Цвет безнадежности.
Водитель, молчаливый сержант из гаража особого назначения, вел машину ровно и уверенно, не обращая внимания на колдобины, которые то и дело заставляли меня прикусывать язык. Он знал дорогу. Такие, как он, всегда знают дорогу в места, которых нет на карте. Мы ехали в Дубну-3. Почтовый ящик, закрытый город, наукоград. Место, где лучшие умы страны ковали невидимый щит Родины, а заодно, вероятно, и меч. Место, куда просто так не попадают. И откуда просто так не исчезают.
Телефонный звонок генерала Морозова выдернул меня из полузабытья в моей холостяцкой квартире на Профсоюзной два часа назад. Его голос в трубке был сухим и трескучим, как старый пергамент. «Волков, машина ждет. Дубна-три. НИИ-Семнадцать. Труп. Ведущий химик Арсентьев. Местные топчутся, ждут тебя. Официально – самоубийство на почве переутомления. Неофициально – разберешься». Короткие гудки. Генерал не любил лишних слов. Особенно по «вертушке».
«Самоубийство». Это слово всегда вызывало у меня привкус железа во рту. Удобное слово. Оно закрывает дела, успокаивает начальство, позволяет не копать слишком глубоко. Но когда ради «самоубийства» ведущего специалиста секретного НИИ срывают с места майора Пятого управления, это значит, что под тонкой корочкой официальной версии булькает что-то очень горячее и дурно пахнущее.
Машина сбавила ход. Впереди из тумана вырос бетонный забор с колючей проволокой поверху и стандартный КПП со шлагбаумом. Часовой в промокшей шинели, автомат на груди. Сержант протянул в окошко документы. Часовой долго всматривался в наши с водителем лица, сверяя их с фотографиями в предписании, потом козырнул и нажал кнопку. Шлагбаум нехотя пополз вверх, открывая въезд в город-призрак.
За периметром мир не изменился, просто стал более упорядоченным, геометрически правильным. Типовые пятиэтажки, выстроенные в строгие каре. Пустынные улицы, названные именами академиков и элементов таблицы Менделеева. Редкие прохожие в одинаковых серых плащах и шляпах, кутающиеся от ветра. Даже деревья здесь росли ровными рядами, словно по команде. Город-лаборатория, где люди были лишь частью большого эксперимента.
НИИ-17 оказалось длинным, приземистым зданием из силикатного кирпича, обнесенным собственным, внутренним забором. У входа нас уже ждали. Двое. Один – высокий, грузный мужчина в милицейской форме, капитан, судя по погонам. Лицо у него было красное, обветренное, глаза маленькие, беспокойные. Второй – щуплый, в очках с толстыми линзами и потертом драповом пальто, явно из гражданских. Директор института, не иначе.
Я вышел из машины. Ветер тут же попытался вырвать из рук папку и залезть под воротник плаща.
«Капитан Сидоров, районное управление», – представился милиционер, протягивая вялую, влажную руку.
«Директор института, Фомин Петр Сергеевич», – второй говорил тихо, почти шепотом, будто боялся, что стены услышат. Он руки не подал, лишь нервно потер ладони одна о другую.
«Волков, – я не стал уточнять ведомство. Они и так знали. – Где объект?»
«Сюда, товарищ майор», – засуетился Фомин, семеня впереди. – «Третий этаж. Лаборатория неорганического синтеза. Мы ничего не трогали, как только… как только обнаружили».
«Кто обнаружил?» – спросил я, поднимаясь по гулким бетонным ступеням. Внутри пахло хлоркой и озоном. Стерильный запах, который пытался перебить что-то еще, какой-то другой, более вязкий и сладковатый аромат.