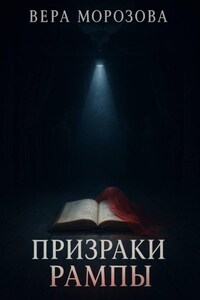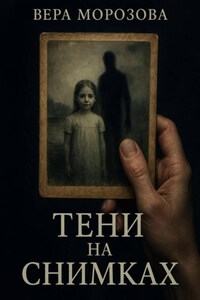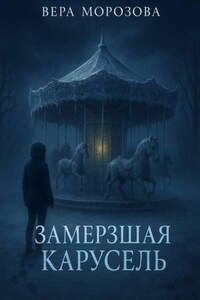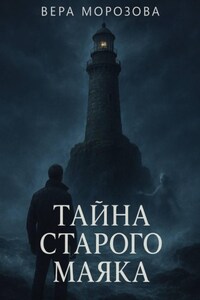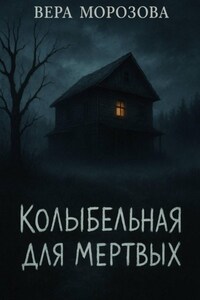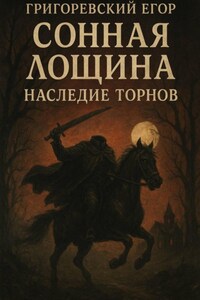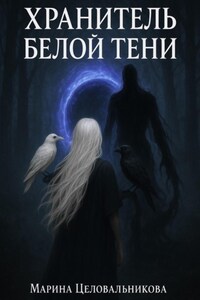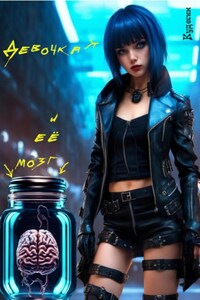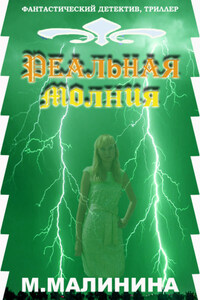Пустота имела свой вес. Кирилл Лебедев чувствовал его всем телом – от гудящих висков до онемевших кончиков пальцев. Она вдавливала его в продавленное кресло, растекалась по венам вместо крови, делала воздух в комнате вязким и непригодным для дыхания. Ночь за окном была не черной, а фиолетовой, больной, исчерченной неоновыми росчерками рекламы – беззвучными криками чужой, кипящей жизни. Его собственная жизнь замерла, превратилась в стоп-кадр провала, в закольцованную сцену унижения, где аплодисменты были жидкими, а молчание критиков – оглушительным.
Он потер лицо ладонями, ощущая жесткую щетину и холодную, липкую кожу. Провал. Слово, похожее на звук лопнувшей струны. Его «Чайка» – авангардная, вывернутая наизнанку, препарированная – не взлетела. Она камнем рухнула со сцены, увлекая за собой его имя, его будущее, его веру в то, что театр – это скальпель, вскрывающий нарывы мира, а не снотворное для уставших буржуа. Теперь он был никем. Режиссер без театра, пророк без паствы. Призрак, бродящий по собственной квартире, заставленной книгами, которые он больше не мог читать. Их слова казались насмешкой.
Нужен был не просто новый проект. Новая пьеса. Нужен был разряд, удар молнии, способный заставить остановившееся сердце искусства снова биться. Что-то настоящее. Что-то, что пахнет не типографской краской, а кровью и пылью веков. Идея, за которую не жаль сгореть.
Он встал так резко, что старое кресло жалобно скрипнуло. Решение пришло не из разума – оно родилось где-то в солнечном сплетении, холодное и острое, как осколок льда. Архив. Театральный архив «Эха». Не официальное хранилище с каталогами и оцифрованными копиями, а тот, другой – подвальный, забытый, куда десятилетиями сносили то, что не годилось для парадной истории. Несыгранные пьесы, забракованные эскизы, дневники давно умерших статистов. Кладбище замыслов. Именно там, среди мертвецов, он попробует найти жизнь.
Утренний свет, пробившись сквозь вечную петербургскую хмарь, был серым и водянистым. Он не нес тепла, лишь делал тени в коридорах театра «Эхо» длинными и сизыми, похожими на утопленников. Кирилл шел по гулким лабиринтам закулисья, и само здание, казалось, дышало ему в затылок – сквозняком, пахнущим старым бархатом, потом и чем-то еще, неопределимо тревожным. Запах застоявшейся памяти.
Дверь в архив была низкой, обитая потрескавшейся кожей, похожей на шкуру доисторического животного. Он постучал. Тишина. Постучал снова, настойчивее. Из-за двери донесся шорох, словно кто-то медленно, неохотно отрывал себя от стула. Замок щелкнул сухо, как ломающаяся кость.
На пороге стоял Иван Петрович Замятин, хранитель этого царства забвения. Сухопарый, в потертом кардигане цвета пыли, с лицом, испещренным такой густой сеткой морщин, что казалось, будто он вот-вот рассыплется в прах. Но глаза за стеклами старомодных очков были живыми и цепкими. Он не был просто стариком; он был частью этого места, его нервным узлом, его недремлющей совестью.
– Кирилл Андреевич, – голос у Замятина был под стать внешности, шелестящий, как переворачиваемые страницы. – Чем обязан? Спектакли нынче ищут в сети, а не здесь. Здесь только то, что добровольно ушло из жизни.
– Именно это мне и нужно, Иван Петрович. То, у чего не было шанса. Несыгранное. Забытое.
Архивариус смотрел на него долго, не мигая. В его взгляде не было любопытства, скорее, усталая проницательность врача, к которому пришел пациент с застарелой болезнью.
– Отчаяние – плохой советчик, – тихо сказал он, но все же отступил в сторону, пропуская Кирилла внутрь.
Воздух внутри был густым, спертым. Он состоял из запахов книжного тлена, высохшего клея и времени, спрессованного в картонные папки. Бесконечные ряды деревянных стеллажей уходили в полумрак, теряясь в перспективе. Они были похожи на ребра исполинского кита, выброшенного на берег и забытого. Лампочка под потолком, тусклая и одинокая, выхватывала из тьмы лишь небольшой пятачок пространства. Здесь слова умирали. Не исчезали, нет, а именно умирали – медленно, теряя цвет, звук и смысл.