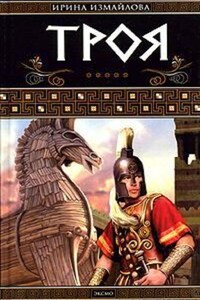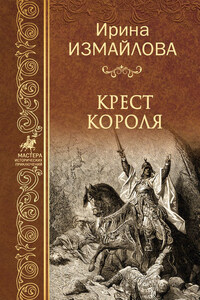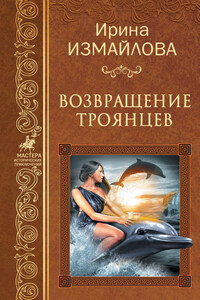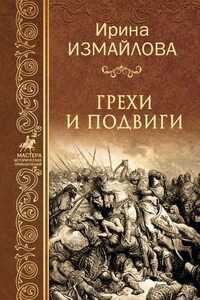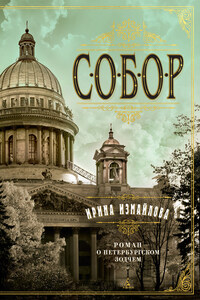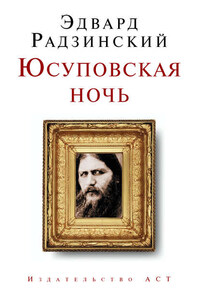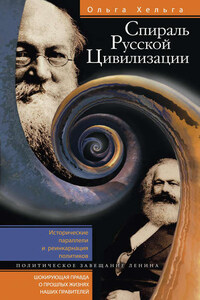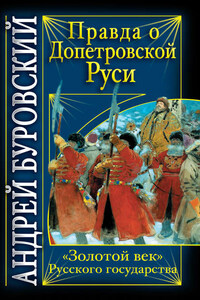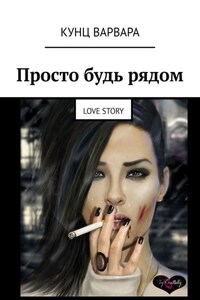Только на миг темноту прорезала слабая вспышка огня и тотчас пропала.
– Ага, попались! – прошептал, припав к бойнице, Никола Вихорь, молодой стрелецкий сотник, в ту ночь командовавший дозором. – Так и знал: не нашли бы вы, голубчики, спуска в ров, вовсе огня не зажигая… Ну, а теперя не взыщите!
Он приложил руку ко рту трубкой и гулко заухал совой. С соседней башни ему отозвался такой же крик, и спустя несколько мгновений над той башней занялось рыжее пламя, и несколько горшков с горящей смесью смолы и стружки полетели вниз. На этот раз их не было надобности кидать прицельно: горшки обрушивали не на головы подступающего неприятеля, а на кучи сложенной в двух саженях[1] от подножия башни, пропитанной смолой соломы. Та тотчас ярко занялась, осветив не только часть крепостной стены, но и вырытый под нею ров.
Никола Вихорь был прав: просто так, в густой темноте в этот ров было непросто спуститься – еще прошлой весною вдоль него были обильно натыканы заостренные колья, к тому же перевитые рыбацкими сетями. Пушечным огнем эти заграждения были кое где уничтожены, в некоторых местах осажденным удалось, совершая вылазки, восстановить их. Но найти брешь нужной ширины, не ткнувшись перед тем несколько раз в опасный частокол да не угодив пару раз в сети, было нелегко – потому-то сотник и не сомневался, что хоть один факел, хоть совсем ненадолго наступающим зажечь придется. А о том, что со стороны этой башни готовится наступление, можно было догадаться еще днем: польские пушки часа два, как остервенелые, били в одно и то же место стены, усиливая образовавшуюся в ней при прошлом обстреле широкую выемку. В конце концов пушки с крепостной стены разбили два из шести вражеских орудий и уничтожили чуть ли не всех пушкарей, и ляхи наконец откатились с облюбованного для обстрела бугра. Однако они наверняка не просто так лупили, норовя попасть в одно место – хоть брешь не дошла в глубину и на треть могучей, четырех саженей в ширину, крепостной стены, но, возможно, осаждающие все же надеялись ослабить стену, ночью заложив в брешь и подорвав сильные петарды[2].
– Донести воеводе? – спросил сотника один из его осадных[3].
– К чему? Может, он наконец поспать прилег, а мы его будить станем! Он их задумку угадал, нам приказы отдал, а теперь мы и сами управимся – не зря же «дорогих гостей» встречать готовились!
Меж тем в глубине рва, слабо освещенной рыжим полыханием возгоревшейся соломы, стали заметны несколько групп польских пехотинцев, явно намеревавшихся подобраться к стене и заложить заряды. Вероятно, поляки ожидали, что русские могут заметить их отряд и напасть на него – петардщиков было много, не менее полутора сотен человек, значит, часть из них готовилась обеспечить прикрытие на случай вылазки неприятеля.
– За дураков нас держат паны ляхи! – печально усмехнулся Вихорь. – Ай, как обидно! Эй, Вася, дай-ко мне пищаль![4]
Стрелец протянул своего командиру трофейную пищаль, определенно немецкой работы, тяжелую, с украшенным насечками прикладом.
– Не попадешь, Никола! Мне дай.
Сотник обернулся и с неудовольствием увидал позади себя Юрия Сухого, тоже приписанного к осадному отряду этой башни, однако в ту ночь свободного от караула. Но не утерпел все же лучший смоленский стрелок Юрка Сухой, пришел покрасоваться своим умением!
Вообще-то они с Сухим, хоть тот и был родом из дворян, а Никола – из посадских стрельцов, уже год крепко дружили, что не мешало их вечному соперничеству. После лихих вылазок они могли иной раз до хрипоты спорить, чей топор больше «ляшьих башок» срубил, либо чья стрела или пуля свалила командира конной хоругви[5]. Эти споры никогда не доходили до серьезной ссоры – в условиях жестокой осады, что длилась вот уже более года, ссориться было непозволительной роскошью. Но не это решало дело – оба воина были отважны, оба на хорошем счету у воеводы, и делить им, по настоящему, было нечего. Они искренне привязались друг к другу и, как все замечали, даже чем-то один на другого походили – оба среднего роста, крепкие, но легкие, оба темно-русоволосые, с густыми кудрями и короткими, тоже чуть кучерявыми бородами. Только глаза у Юрки были карие, а у Николы – синие, как васильки. Сотнику минуло этим летом двадцать четыре года, Сухому сравнялось двадцать три.