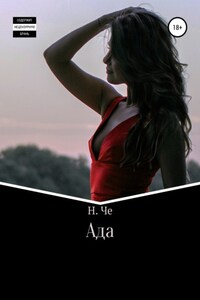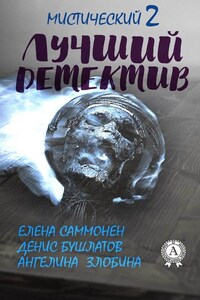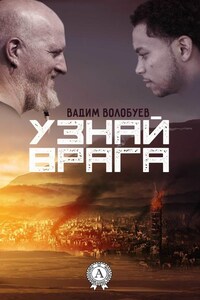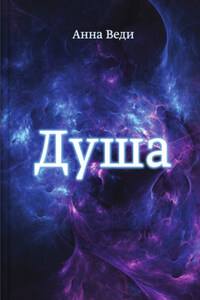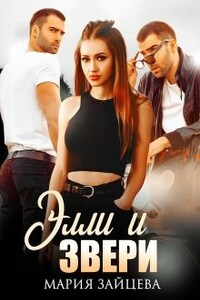На блёстки дней, зажатые в руке,
Не купишь тайны, где то вдалеке.
А тут и ложь, на волосок от правды.
И жизнь твоя, сама на волоске.
Омар Хайям
«Шли и шли и пели «Вечную память»», – вертелась в голове строчка из какой-то давным-давно прочитанной книги. Каблучок левого сапога то и дело проваливался в грязный серый снег, туда, где подмокший край ковровой дорожки граничил с обочиной. Ада Фрейн шла вместе с людским потоком и останавливалась с ним вместе, постукивала в паузе туго затянутой в кожу ногой по посеревшему от тысяч следов красно-черному ворсу, стряхивая снег. А на следующем шаге оступалась снова.
«И почему не убрали дочиста, совсем?» – думала, зябко кутаясь в черные искусственные меха. Было время и думать и вспоминать – шли медленно, делали несколько шагов, останавливались, ждали. С усилием, там, впереди, проталкивались в узкие двери крематория, перед которыми нужно будет еще подняться по бесконечным ступеням, опираясь на спины и плечи сограждан, повернуть голову, предоставляя жадным зрачкам фотоаппаратов свое печальное выражение лица в идеальном ракурсе, чтобы в завтрашних газетах появиться символическим выражением всенародного горя. Но это не повод для беспокойства – Аде Фрейн удавалось в жизни немногое, но она всегда умела выходить на фотографиях так, как нужно. Потому сейчас с сосредоточенностью маленького ребенка она разглядывала чуть загибающийся край грязной дорожки под ногами, напоминавший, что нужно идти аккуратно. Упасть – когда вокруг столько людей! – не хватало еще. Могла бы держаться ближе к центру, но продолжала идти по грязному краю, чтобы вот так – в стороне от всех. Как стеной отгородиться скорбным видом, прямой спиной и молчанием. Была бы возможность, шла бы последней, отстала бы от этой толпы с ее унылыми, нескончаемым потоком журчащими разговорами. Но как тут отстанешь, если впереди полнеба скрывшая громада крематория, а позади тысячи человек, позади железные ворота. А там, за воротами напирает толпа тех, кто не получил вчера маленькой черной карточки, приглашавшей на прощание в Центральный Крематорий Столицы, кто ждал с самого утра, кому придется довольствоваться смутной надеждой, что под вечер пустят к покойнику. Страшно подумать, как они там мерзли с утра в это унылое межсезонье, когда время года еще само не понимает, чем ему быть: задержавшейся зимой или рано наступившей весной. Там зато плакала бы свободно, и не говорили бы вокруг о ерунде, и там можно было бы остаться одной, совсем одной посреди толпы. Но она была здесь, а не там, и на этом точка. Благодарить усопшего следовало за это, а еще организаторов прощания, включивших ее в список избранных, но то ли забывших, то ли просто не подумавших убрать снег вокруг ковровой дорожки.
Из-за спины раздались – не в лад взятому шествием темпу – дробные быстрые шаги. Кто-то спешил, проталкивался, кто-то умудрялся лавировать в толпе, нарушая мерный ход процессии. Ада уловила краем глаза, что справа из-за спины к ней приближаются остроносые, начищенные ботинки – педантично, ровно, чтобы не оступиться в грязный снег, не споткнуться ненароком. Ниже опустила голову.
– Ада… – Она узнала и голос, и ботинки. Конечно, кто-нибудь обязательно должен был подойти. Но тут не кто-нибудь. Тут Илья Арфов, ее друг, ее менеджер, ее персональный «агент-хранитель», как он сам порой в шутку себя называл.
– Что? – Спросила раздраженно, догадывалась, зачем он к ней спешил.
– Ты как?
– Не пила, – хрипло ответила, не глядя на него. – Тебя же это беспокоит? Как стеклышко. А теперь отвали, Арфов.
– Не злись, – он улыбнулся. Даже не видя его лица, она по голосу слышала, что улыбнулся. Испытал облегчение, не так ли? – Я знаю, ты переживаешь.