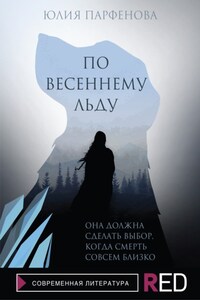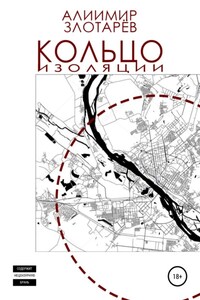Судьба изменчива…
Эзоп
Понедельник, начало дня.
Под утро потолок Сената опустился и неимоверной тяжестью навалился на грудь, расплющил ее, придавил спину к тощему матрасу. Сердце, сжалось, закаменело и почти перестало биться. Проснувшись, Борис Глебович почувствовал, что совершает нелепые движения руками вверх, стараясь оттолкнуть от себя ночной кошмар. Он попытался услышать свое сердце, но уши ловили лишь мелкое судорожное, словно предсмертное, дыхание. Невидимая доска не освобождала и все плющила грудь. Так когда-то давно, в босоногие его годы, дышала их дворовая собачка Жучка, прилетавшая стрелой на клич хозяина из каких-то там неимоверных далей. Ему казалось, что у нее вот-вот выпадет язык, и она сейчас издохнет. Но Жучка выправлялась, успокаивалась, и язык ее уж подхалимски слюнявил его руки, а глаза просили ласки и хлеба… «Ей-то что? Что с нее взять – животное? Мне-то, поди, не выправиться, вот сейчас и помру…» – с мучительным страхом подумал Борис Глебович. Ему показалось, что в мутных наплывах краски на потолке проступают контуры острой Жучкиной мордочки. Она то ускользала, то проявлялась необыкновенно отчетливо, так что он ясно мог видеть даже белые подпалины на черной шерстке. Он мучительно напрягался, пытаясь зачем-то разглядеть ее в мельчайших подробностях, словно в этом и было его единственное лекарство, но потолочные пятна расплывались перед глазами, и слагались теперь лишь в какие-то невообразимые болезненные пузыри и нарывы. «Ох, горюшко мое, горе», – протяжно простонал Борис Глебович и вдруг почувствовал некоторое облегчение, как будто детские воспоминания встали между ним и давящей тяжестью потолка упругой успокоительной преградой. «Слава Тебе, Господи! Нет, пожалуй, не сегодня… – вздохнул Борис Глебович, – будь она неладна, эта стенокардия». Он потянулся рукой к тумбочке за таблеткой нитросорбида, выдавил из ломкой пачки крохотную горошину, осторожно положил под язык, затем бережно ощупал свою грудь и затих в ожидании побудки…
Спать не хотелось. Мысли бежали, перебирая былое, – давнее и ближнее, – карабкаясь вверх, пытаясь что-то увидеть-разглядеть там впереди. Но только что там разглядишь? Да и что там есть? Два месяца в стенах Сената… Всего два… Или уже? Или целая жизнь? Которая еще предстоит или уже прожита? Господи, как неуловимо время, как трудно его соотнести, соразмерить с ним же самим. Детство, юность, работа в колхозе, учеба в техникуме – их отсекла, оставила в прошлом армия. Каким же огромным это прошлое казалось прежде? Целая вечность! Не верилось, что ее однажды можно избыть. Но кончилось, как кончается все. Лишь пообвыкся он в зеленом мундире, помесил сапогами грязь на полигонах, и тут же все прошлое превратилось в краткий листок воспоминаний – конспект его прежней жизни: родился… рос… окончил… получил… Многоточия, сокращения, неразборчивые строки… Неужели на это потрачено столько лет? А дальше? Кировский завод, Сибирь, Дальний Восток – неужто и это имело место? И все теперь – опять же, лишь краткий конспект пережитого? А два последних месяца в Сенате – это главное, что было, есть и будет – его настоящая жизнь? Довольно! Борис Глебович запряг разбегающиеся мысли – эх вы, кони, мои кони! – и двинул их туда, к истокам Сената. Два месяца…
* * *
Если точнее, то все началось ровно два месяца и восемь дней тому назад. Борис Глебович проснулся от грохота за стеной. За несколько мгновений до пробуждения, ему привиделось, что он опять на затерянной в Сибирских просторах стройплощадке. Брезентовая роба – его вторая кожа – заляпана раствором, зеленая каска обручем сжимает голову, а уши заложены от чудовищного грохота работающих копров. Сваи, как огромные железобетонные гвозди, протискиваются в грунт, словно пытаются спрятаться там от неумолимо настигающих их ударов молотов и вселенского грохота, который терзает и рвет барабанные перепонки. Терзает и рвет… Борис Глебович сел на постели и с ненавистью посмотрел на стену. Там, в соседней квартире, подросток по имени Валек испытывал акустические возможности неделю назад приобретенного музыкального центра. Терпения видеть его выключенным ему хватало лишь с одиннадцати вечера до восьми утра, в остальное же время, когда был дома, он врубал тяжелый – как он сам это называл – музон на всю… Да что там уши? Дрожали стены, с потолка сыпалась известка и кусочки штукатурки. И что делать? Просить, умолять? Просил… У огромного, как каменный истукан с острова Пасхи, Валькиного папаши. Но истукан – он и есть истукан: безстрастно показал на часы, мол, имеем право, не ночью, чай, гремим. Просил и самого Валька, тот же лишь ехидно усмехнулся да, повернувшись, похлопал себя по тощему заду. Будь его воля, выпорол бы паршивца! Тоже мне – младое племя! Борис Глебович звонил в милицию, но поддержки не нашел и там: что поделать – демократия…