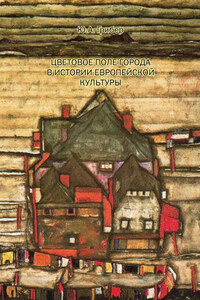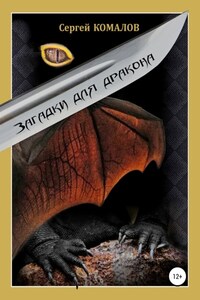Сегодня остается только восхищаться невозмутимостью, с которой современник Цезаря, римский военный инженер и архитектурный теоретик Марк Витрувий Поллион «укладывает» все многообразие сущего в одну короткую формулу:
Мир же есть высшая совокупность всей природы вещей и небо, (со)образуемое созвездиями и звездными путями (IX-1-2, 160)[1].
Хотя Витрувий дает это определение мира почти в конце своего знаменитого архитектурного трактата, оно скрыто присутствует за всеми его рассуждениями с самого начала – подобно умело натянутому холсту, на который художник методично накладывает штрихи и краски. В мире, обобщенном настолько быстрым, простым и уверенным движением мысли, можно без суеты и тревожных сомнений сосредоточить внимание на тонкой настройке числовых соразмерностей ордера, выборе наиболее подходящих сюжетов для росписи полов загородной виллы, размышлениях о связи между человеческим характером и климатом и тому подобных нюансах. Такой мир вверяет себя архитектору для неторопливого и благоговейного совершенствования, поскольку в нем в непосредственной (визуальной) близости друг от друга располагаются текучее время и вечность, с которой отождествляется «надзвездное» небо. Вооруженные данными новоевропейского естествознания, мы сегодня воспринимаем этот «компактный» витрувианский мир как навсегда ушедшую в прошлое идиллическую сцену, как «наивный» мифопоэтический образ. Если судить по объему накопленных описаний и формул, в сравнении с античностью наша осведомленность об окружающей действительности значительно улучшилась. Но складываются ли эти многочисленные и разнообразные новые по знания в систему или общезначимую «картину мира», способную служить современному архитектору таким же надежным теоретическим основанием и ориентиром, каким для Витрувия был сферический Космос его эпохи? Зарезервировано ли в нашем современном понимании мира какое-то место для вечности, с точки зрения которой (как принято говорить, sub specie aeternitatis) архитектор мог бы так же рассудительно оценивать качество возводимых им построек?
Даже если такая «консолидированная» картина мира, подразумевающая соответствующую «метапозицию», и существовала еще, скажем, столетие назад – в период, предшествовавший появлению теории относительности и квантовой физики, – то сегодня, судя по целому ряду признаков, новоевропейское мировоззрение пребывает в состоянии радикальной ломки, разрыва привычных связей и трансформации во что-то, пока только смутно угадывающееся. Симптомы этого процесса, проявившись сначала в «надстроечных» областях науки, искусства и культурной индустрии, к настоящему моменту проникли практически во все слои экономики и организации повседневной жизни людей. В ходе публичных дискуссий современное состояние глобальной экономики все чаще характеризуется как системный кризис, то есть как кризис, на всю глубину пронизывающий доминирующую модель общественных отношений и систему представлений о мире, – как кризис основоположений.
Гегелевская диалектика приучила нас воспринимать периодическое разрушение одних универсальных моделей и смену их другими как неотъемлемую черту исторического становления культуры. В ХХ веке немецкий математик Курт Гёдель наглядно показал, что любая система взаимосвязанных положений, содержащая какое-то число аксиом, не может не порождать в своем развитии внутренних противоречий, требующих введения дополнительных аксиом, за которыми следуют новые противоречия и т. д., до бесконечности. Этот скептический вывод Гёделя справедлив в приложении к строго формализованным математическим системам и – разумеется, в еще большей степени – по отношению к повседневным представлениям людей: чем больше мы на бытовом и узкопрофессиональном уровне «знаем» о мире или о той или иной его части, тем больше представлений и сведений мы вынуждены принимать без доказательств. Тот факт, что о мире в целом или о чем-либо в нем нельзя ничего сказать с абсолютной аподиктической достоверностью, должен был бы полностью парализовать общественную практику, если бы эта практика не была изначально и неразрывно переплетена с производством знаний. Новоевропейский научный позитивизм в процессе «контроля качества» знаний традиционно удовлетворялся критерием их практической целесообразности: чтобы та или иная гипотеза или объяснительная теория была усвоена в качестве истинной, ей достаточно было обладать компактностью, успешно предсказывать результаты экспериментов и приносить полезные плоды в политэкономической сфере. Погруженность в практическую деятельность, которая повсеместно регулируется этим позитивистским принципом, позволяет нам не думать или редко вспоминать о том, что за любым стабильным представлением, помимо его практического удобства, стоит либо произвольное решение в пользу той или иной интерпретации чувственных данных, либо какое-то некритически усвоенное традиционное установление. В результате многолетнего или многовекового «успешного» использования исходные гипотезы теряют проблематичность и превращаются в «очевидные факты» – чем дольше они служат, тем более плотными и незыблемыми элементами нашего мировоззрения они становятся. Однако неполнота и несовершенство складывающегося из этих элементов мировоззрения, его имплицитные противоречия рано или поздно выходят на поверхность, заставляя ставить даже самые базовые представления под вопрос.