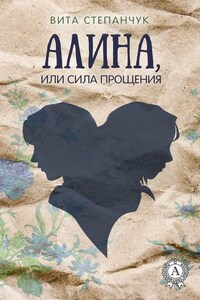Костыль.
Гл.1
– Ладно, Муся, раз уж ваше любопытство испытывает непомерную жажду, считайте что уговорили. Я изложу вам парочку горьких жизненных эпизодов. Хотя, если быть предельно откровенным, мне не нравится вслух исповедовать пикантные подробности жизни делового человека, тем более те из них, которые заставляют гулко биться и так надорванное сердце и могут явить случайному взору скупую воровскую слезу, – так я говорил своему новому подельнику, и ещё умолял его не сидеть истуканом.
Терпеть не могу застывшего слушателя – будто втолковываешь античному изваянию, как мел под гнётом лет преобразуется в мрамор. Это здорово сбивает с толку. Как по мне, так слушатель должен ёрзать, чесаться, выпучивать глаза, моргать, зевать и производить прочие ненужности, давая тем самым понять, что не отрешен от соучастия в развернувшемся действе. В худшем случае пусть уж просто жрёт, чем оцепенеет, уставивши в упор свои рыбьи зенки.
Мне дико повезло – Муся оказался воспитанным человеком. Он не только не обиделся на своё новое прозвище, но и выполнил все мои непритязательные требования. Мы как раз ехали забитой до отказа плацкартой Ванино – Комсомольск-на-Амуре. К тому же он, глядя на меня, щурился, а не таращил свои зырки.
Я уже завершил прием пищи, а он за обе щеки уплетал остатки жареной курицы, отчаянно чавкая и до неприличия треща её косточками. Только поэтому я и смог поставить точку в этом коротком рассказе.
– Началось всё, Муся, так давно, что через каких-то пару лет я смогу, не отводя глаз, любому озвучить, что видел дедушку Ленина; и мне поверят, – гордо говорил я.
Тогда, дружище, всё было по-другому. Были другими люди и еда, страна была другой, море кишело бычками и таранью, а мы с Костылем были ещё совсем молокососами. Костылем Пашку прозвал я, причем вразрез его комплекции – в свои тринадцать он уже весил полсотни кило. У меня определенно есть талант давать прозвища. Ты сам в этом очень скоро убедишься.
Это неинтересно, но я все-таки макну вас макушкой в серое наше детство. Пашка был мой друг, друг из детства и первый мой подельник многие счастливые годы. Мы появились на свет разными и от разных родителей. Я оказался юрким и весьма живучим, а Пашка неизлечимым лодырем. Как и подобает всем главарям, я был крайне недоверчив и всегда был готов отпрянуть на безопасное расстояние при любом агрессивном выпаде Пашки. Он был несусветный болтун, а я слыл молчуном и забиякой. Не скрою, мы часто сражались из чисто иерархических принципов. Естественно зачинщиком кровавых баталий всегда был я.
Начиналось обычно вот как. Костыль, будучи не очень в настроении командовал "принеси ему то, подай сё". Я был груб и яростно противился подобному обращению, пресекая его посягательства на верховенство. Тогда Костыль начинал толкаться, а я отвечать тем же. Какое-то время спустя доходило до тычков и оплеух, после чего всегда разгорался кулачный бой. Костылю приходилось туго. Я как мог уворачивался от неразборчивых и страшных кулаков толстяка и старался из всех сил измотать претендента на трон. Он, не имея возможности меня поймать, сыпал ругательствами и кидался камнями и палками. Я терпеливо выжидал, когда ему надоест это занятие и затем всегда поддавался уставшему противнику. Получив небольшую трёпку и пару незначительных хуков в плечо или под ребра, я театрально изображал поверженного врага. Раскрасневшийся Костыль скоро успокаивался и мы мирились. Так я сохранял лидерство в нашей группе.
Обычно в начале лета я порождал краткую речь такого рода: – Слышь, Костыль, а не плохо нам забраться к той одноглазой в огород, что в Широчанке живёт. На базаре клубнику продают, я от мамки слыхал. А у этой заразы её аж три грядки. Давай сегодня ночью залезем, а? Костыль, поспела ведь. Не успеем опять несолоно хлебавши останемся. Чё ты менжуешься? Я залезу, а ты на шухере постоишь. Я нарву тебе целых две горсти, клянусь мамой. Ну, так чё, как стемнеет валим?