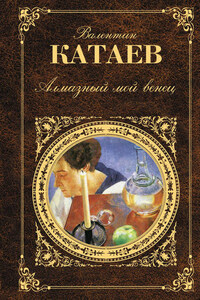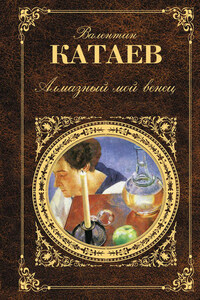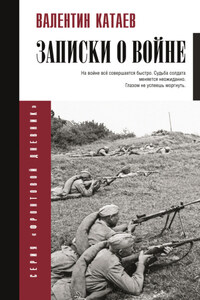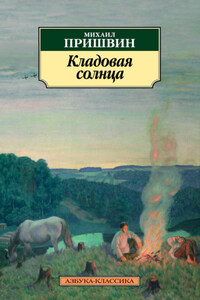Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы.
Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха.
Это был первый сигнал к отправлению дилижанса.
Все было кончено. Наступил горький час прощанья.
Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета.
Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя, по фамилии Бачей, – отец и два мальчика: трех с половиной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего – Павлик. Но и они покидали сегодня дачу.
Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней.
Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух.
Сад, степь, двор – все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его.
На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос: шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротнику белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фильдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями.
Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето.
Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался три раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах.
И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы – ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло!..
Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.
Две толстые утки прошли, оживленно калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.
Была ли это демонстрация, или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.
Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода – чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку, – и та показалась до странности чужой, незнакомой.
Солнце поднималось все выше.
Хотя двор и сад всё еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа.
Заспанная кухарка, в клетчатой домотканой юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах, выколачивала из самовара о порог вчерашние уголья.
Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой, морщинистой шее.
– Уезжаете? – спросила она равнодушно.
– Уезжаем, – ответил мальчик дрогнувшим голосом.
– В час добрый.
Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой поневы и отбила чоб.
Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатились круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли.