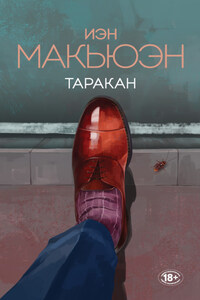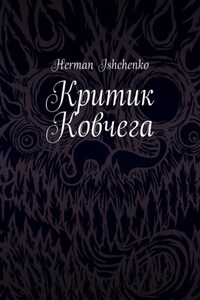Когда вчера вечером те верховые подъехали к броду, я уж решил, что нам с тобой конец. Даже ты, должно быть, это понимал. Они были от нас совсем близко: я чувствовал запах конского пота, слышал, как звякают удила, различал в темноте белки лошадиных глаз. Надо признаться – хоть ты и совсем ослеп, да и в бедре у тебя сидит та проклятая пуля, которую так и не удалось извлечь, – ты храбро встал, готовый защищаться, готовый встретиться с врагом лицом к лицу. Может, и не надо было мне тебя удерживать. Может, тогда и не произошло бы того, что случилось сегодня ночью, и та девушка не пострадала бы. Но откуда ж мне было знать? Драться я готов не был, да и в удачу не верил; я мог лишь смотреть, как они в лунном свете пересекают старое высохшее русло реки и начинают подниматься по склону оврага, удаляясь от нас. Разве ж я неправильно поступил, решив выждать, – хотя бы в силу привычки? Я знал, что в душе ты по-прежнему стремишься к бегству. Тебе и сейчас еще хочется убежать, вырваться на свободу. То же стремление живет и во мне. Желание бежать, спасаться поселилось во мне давным-давно, задолго до того, как мы с тобой встретились. Впервые я, шестилетний, испытал его, когда пришел в себя после болезни и понял, что лежу на узкой койке рядом с отцом и мы плывем на каком-то корабле, ибо я чувствовал морскую качку и слышал шипение волн под килем; мы уже тогда пребывали в состоянии постоянного бегства. Впрочем, бежал скорее мой отец, хотя от чего и куда он бежал, я так и не понял. Он, помнится, был очень худой. И, наверное, молодой. Может быть, он был кузнецом или еще кем-то из тех, кто много и тяжело работает, но обычно не имеет возможности нормально отдохнуть, зато уж за тот месяц сплошной качки, когда день ничем не отличался от ночи, а где-то над нами в темноте слышался лишь скрип канатов и скрежет лебедки, он, кажется, наконец-то отдохнул. Он называл меня sine, сынок, и еще каким-то именем, которое я всю жизнь тщетно пытался припомнить. Из нашего плавания через океан я помню в основном пенные гребни волн и запах морской соли. А еще, конечно, мертвых, завернутых в саваны и выложенных в ряд на корме.
Жилье мы нашли рядом с гаванью. Окна нашей комнаты выходили на бесконечные ряды бельевых веревок, которые, пересекаясь, тянулись от окна к окну, как бы растворяясь в клубах пара, вечно висевшего над прачечной, находившейся внизу. Спали мы на одном тюфяке, стараясь не обращать внимания на сумасшедшего, спавшего у противоположной стены, хотя его недуг усугублялся с каждым днем. В коридоре вечно кто-то орал. Кто-то из тех, что словно застряли между мирами. Я лежал на своей половине матраса, намертво вцепившись в лацканы отцовского пальто, и чувствовал, как у меня в волосах шевелятся вши.
В жизни не встречал человека, который умел бы так крепко спать, как мой отец. Наверное, это из-за работы в порту. Каждый день он с утра до ночи сгибался под тяжестью погрузочных клетей или тяжеленных бухт каната, по сравнению с которыми выглядел просто муравьем. А после работы он обычно брал меня за руку, и людская река, состоявшая из таких же, как мы, приплывших неизвестно откуда, несла нас прочь от причалов по главной улице туда, где высились стальные леса будущих небоскребов. Отцу строительство таких зданий казалось настоящим чудом, он вообще с большим интересом относился ко всему, что делалось в мире. У него была хорошая память, плохие, постоянно болевшие зубы и неизбывная ненависть к туркам, которая всегда вспыхивала с новой силой, если ему доводилось пить чай с теми, кто думал так же. Но вот ведь что странно: как только какой-нибудь серб или мадьяр начинал выступать по поводу железного кулака Стамбула, мой отец, такой упорный в своей ненависти к туркам, внезапно чуть ли не со слезами говорил ему: