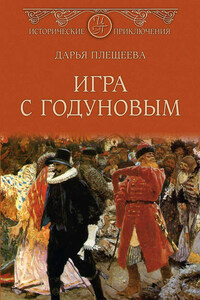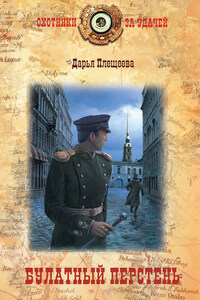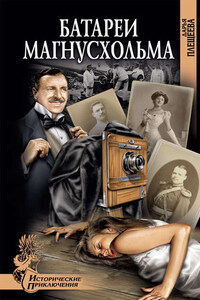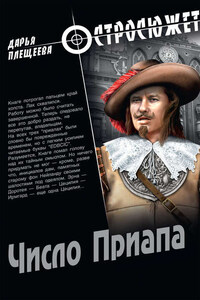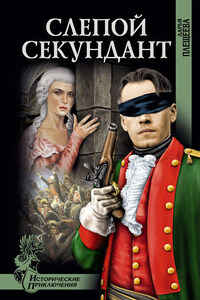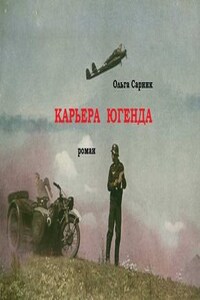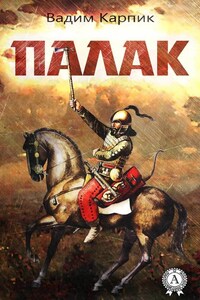– Москва! – радостно воскликнул, привстав на стременах, Ивашка.
– Москва, – подтвердил Богдан.
Ивашку и оставшегося в Царевиче-Дмитриеве, прежнем Кокенгаузене, друга Петруху уже вполне можно было звать уважительно – Иваном Матвеичем и Петром Федоровичем, тем более что Ивашка – женатый человек, да и Петрухе поневоле пришлось задуматься о семейных радостях. Но служба у обоих такова, что дома бывают редко, жиром не обрастают и, хотя обоим чуть за тридцать, сохраняют юношескую поджарость и молодой блеск в ясных глазах. Опять же в чинах они небольших, начальства над ними – великое множество. Ивашка – всего лишь толмач Посольского приказа, отданный в распоряжение воеводы Ордина-Нащокина, а Петруха – знающий всех языков понемногу, зато понимающий в строении всевозможных судов, и морских, и речных, северянин из Архангельска, которого в Москву, потом в Курляндию, а потом и в Царевиче-Дмитриев занес случай. Как же не назвать их Ивашкой и Петрухой?
Отряд конных (десять вооруженных всадников на крепких выносливых бахматах, четыре заводных коня, из которых два аргамака, да шесть вьючных меринов) приближался к Москве по волоколамской дороге. Уже проехали Покровское, уже оставили за спиной деревеньку Щукино, приписанную к Хорошевской конюшенной волости, и до Боровицких ворот Кремля оставалось с десяток верст.
Были в отряде двое очень опытных бойцов – Богдан Желвак и Тимофей Озорной, было трое донских казаков, местный житель – купец Иоганн Вайскопф с подручным, парнем такого мощного сложения, что хоть его зимой на лед Москвы-реки выпускай государя кулачным боем тешить. А еще в Москву ехал единственный сын воеводы Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, Воин Афанасьевич, с пожилым дядькой Пафнутием. Ну и, само собой разумеется, Ивашка.
Желвак и Озорной, конюхи Больших Аргамачьих конюшен, что в Кремле у Боровицких ворот, обычно выполняли задания Приказа тайных дел, возглавляемого дьяком Дементием Миничем Башмаковым, а случалось и выслушивать приказания от самого государя Алексея Михайловича. На сей раз они привезли в Царевиче-Дмитриев деньги для Ордина-Нащокина, отдохнули несколько дней и присоединились к отряду, собранному для путешествия в Москву.
Казаки служили в Царевиче-Дмитриеве, поскольку их привели для завоевания Лифляндии, как и русских рейтар. С войском, временно пребывавшем в безделье, случались неурядицы – оно грабило лифляндских обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Воевода Ордин-Нащокин сперва ушам своим не поверил, когда ему читали жалобы, потом взялся истреблять заразу. Он писал государю, что охотнее бы сидел в заточении, чем видел, как людям причиняются столь злые беды. Но порядок он навел, и государь, жалуя его в семь тысяч сто шестьдесят шестом году от сотворения мира чином думного дворянина, хвалил его за то, «что он алчных кормит, жаждущих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворам не спускает».
Иоганн Вайскопф был из тех отчаянных купцов, про которых говорят: «кому – война, а кому – мать родна». Он с телегами товара мог возникнуть посреди войска, осаждающего крепость, а на другой день с мешками провианта – в этой же самой крепости. Сейчас он хотел сам встретиться с московскими купцами и посмотреть, не выйдет ли из этого какой прибыли.
Что касается Воина Афанасьевича, единственного и по такому случаю избалованного чада, то ехал он в Москву очень неохотно. В Царевиче-Дмитриеве ему жилось отлично – то туда наезжали знатные курляндские немцы, то сам он сопровождал отца в Митаву или в Гольдинген, доводилось встречаться и с образованными польскими панами, говорившими по-латыни так, как если бы родились и выросли в Древнем Риме, при императоре Августе. Воин Афанасьевич сам отлично знал и латынь, и немецкий, хорошо говорил по-польски и помогал отцу в деловой переписке, заодно учился всяким тонкостям обхождения с ненадежными союзниками. Он понимал, что в Москве и поговорить-то ему, бедненькому, не с кем, да и не о чем, а вот в храм Божий придется ходить чуть ли не ежедневно, чтобы не вызвать государев гнев на отцовскую голову: воспитал-де сынка, палками на исповедь не загонишь…