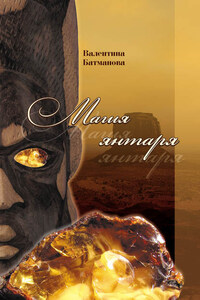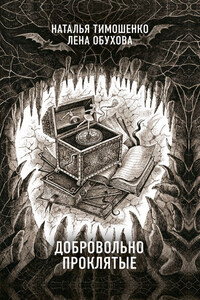С низины, от рек Пичунги и Удерки видно, как темными зигзагами протянулись лесистые горы, в пролеты гребней голубыми зубцами нависают клочья облаков. Верхушки гор стрелами выкинулись ввысь, к голубому безбрежному небу.
И небо и горы слились в одно, замыкая небольшую, набитую снегом долину.
По отложинам, по стремительным кручам густой щетиной засели кедрачи, сосняки, пихтачи и мелколесье. А внизу, на равнине, поросшей березняком и малинником, в беспорядочной скученности раскинулся заброшенный прииск Боровое.
На отвалах и среди рухляди когда-то богатейших построек торчат столетние извилистые, с густыми шапками хвои сосны. Сосны уцелели, видимо, потому, что не попали в полосу разрезов и не пригодились на дрова.
Посредине прииска разорванной цепью тянутся покосившиеся столбы, а с них, точно рваное лохмотье, треплются на ветру остатки почерневших тесниц, – это были тесовые желоба, по которым много лет текла из Удерки вода для промывки золотоносных песков.
Теперь и коновязи около огромных конюшен смотрят покривившимися скамейками: перекладины со столбов наполовину обрублены и истесаны на щепы для подтопок; местами они свалились на землю и сгнили.
Крыши низких казарм и когда-то красивых, с верандами и изразцами, домов провалились, как впадины хребтов.
В изогнутых береговых локтях золотоносной Удерки одинокими чучелами, полузанесенные снегом, стоят почерневшие от дождей две драги. Беспризорные, не ремонтированные с семнадцатого года, стоят сиротами механические чудовища тайги, и будто нет до них никому дела.
Боровое умерло в семнадцатом году – пышная жизнь последних хозяев с азиатским разгульным ухарством отшумела безвозвратно.
О том, что Боровое находится в руках тунгусников, Василий Медведев узнал еще на зимовьях, когда преодолевал почти двухсотверстный свой путь через тайгу. Он узнал, что хищники называли себя свободными золотничниками. Василию не верилось, что так опустились рабочие.
«Да неужели это так? – в сотый раз спрашивал он себя, лежа на нарах в квартире молотобойца Никиты Валкина. – Неужели прииск погиб ни за грош?»
Сквозь окно, затянутое брюшиной, на стену казармы пробивался слабый свет. Взгляд Василия упал на висевшие двумя дорожками камусные лыжи и спиртоносную баклагу.
«Неужели и Никита начал тунгусничать? Сволочи, разини».
Но тут же приходили другие думы:
«А чем же виноваты они, коли голод? На зимовье передавали, что и на руднике Баяхта все уцелевшие шахтеры занялись расхищением прииска. Вот от Никитки, черта, ничего толком не добился».
Он, содрогаясь, подогнул к животу озябшие ноги.
Никиту ночью полумертво-пьяного привезли на нартах из какой-то дальней казармы (лошадей на приисках не было), и баба его, Настя, бывшая скотница хозяев, много брякала языком, но ничего нельзя было понять, кто на приисках остался цел и почему они там с тунгусниками и спиртоносами.
Василий, вздрагивая от холода и тоски, снова повернулся на живот и вздохнул, зарываясь в какое-то тряпье, брошенное ему вчера Настей.
– Ах, пакостники! Ах, собачья отрава! А еще рабочие, земляная сила… Прошиби их каменной стрелой! Уехать обратно, пропади они все тут к черту, – бормотал он.
В другом углу, в куче шипучей осоки, закашлялся Никита, и слышно было, как потянулась Настя.
Рассвет сероватой струей просачивался сквозь мутные брюшинные окна. В щели простенков врывались звонкие струи ветра, наполняя казарму холодом.