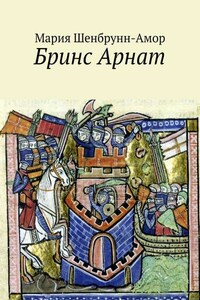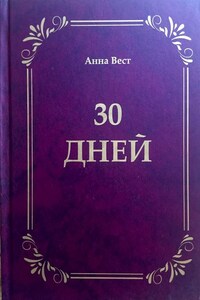Часть I
Рейнальд неистовый
…и вот, конь бледный, и на нем всадник
которому имя «смерть»; и ад следовал за ним.
Откровение Иоанна Богослова
Летом 1149 года от воплощения Господня погиб лучший рыцарь Латинского Востока, и судьба христианской Сирии, а с ней и всего франкского Леванта, рухнула на плечи раздавленной горем Констанции.1
Бой при Инабе населил небеса мучениками, а сирийскую равнину – трупами, и обезглавленное, тронутое тлением тело князя Антиохийского опознали меж остальными павшими лишь по старым ранам – бугристому шраму на руке от схватки с медведем, плечевой вмятине от сарацинской стрелы и длинному красному рубцу на бедре от падения с лошади. С места битвы героя несли на плечах босые монахи монастыря святого Симеона. Впереди брел сокрушенный патриарх Антиохии, за ним с рыданиями и песнопениями следовал клир собора Святого Петра, траурный кортеж сопровождали все нищие города с горящими свечами в руках.
В кафедральном соборе пришлось выставить оконные рамы, не то задохнулись бы паства и пятьдесят служащих тризну священников. На похороны ушел годовой доход княжества, на годы вперед за упокой души раба Божьего Раймонда де Пуатье были заказаны ежедневные мессы, и все подданные княжества молились о душе погибшего и о ниспослании посильного утешения его юной вдове так усердно и долго, что в домах их стыл ужин.
Но все это было бессильно вернуть Раймонда, а значит, не спасало и Констанцию. Боль огнем подступала к горлу, убивала, душила, утягивала на дно, где ни света, ни воздуха, ни надежды.
– Мамушка, нет его, нет, ушел, не помирившись, не бросив на прощанье ни единого ласкового слова, и этого уже ничем не поправишь! Погибаю я без него, погибаю, татик-джан.
Обрубленная шея в запекшейся крови маячила перед глазами, трупный смрад застрял в ноздрях, а она все ждала, что Пуатье вот-вот войдет – живой, ростом под притолоку, сильный, прежний! Со двора явственно слышались раскаты знакомого уверенного голоса, в похоронной процессии то и дело мелькали родные выцветшие пряди. И тут же накатывало ледяным, отрезвляющим ужасом – как же войдет, если его голова теперь услаждает взор багдадского халифа?!
Мамушка Грануш не выходила из опочивальни своей лапушки, целовала руки, гладила пряди цвета потускневшей позолоты, вдовье ложе сплошь увесила ладанками и обращениями к святым угодникам. Кроткая и бестолковая дама Изабель де Бретолио тоже безотрывно сидела у изголовья, рыдала взахлеб, шептала напрасные утешения. Приводили потрясенного, перепуганного пятилетнего Бо и капризничающую, ничего не понимающую Марию, приносили крохотную Филиппу, пахнущую сладким молоком и детской отрыжкой. При виде осиротевших чад Констанция начинала задыхаться:
– Детям-то это за что? Они-то чем виноваты? Как дальше жить? Ради них надо, а как?
На пятые сутки Грануш сдалась, призвала Ибрагима ибн Хафеза, и теперь оба наперегонки, ревниво перепроверяя друг друга, суетились над Констанцией:
– Что там? Что ты даешь моей голубке? – шипела мамушка, бдительно принюхиваясь к египетскому зелью, крестя его и для надежности заговаривая армянским наговором, предназначенным перебить любую басурманскую напасть.
– Глупая, невежественная женщина, что толку тебе объяснять! – пыхтел александрийский медик, возмущенно взметая бороду и отпихивая суеверную няньку от бокала с вонючей целебной настойкой, изготовленной из болиголова, опиума и смятых копытами единорога трав, собранных в святую ночь Ид аль-Адха. – Меланхолию способно излечить лишь избавление от холодной и сухой стихии!
Изабо отводила нахальные сливовые глаза, вздыхала пышной грудью: