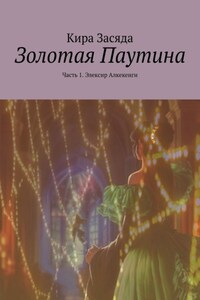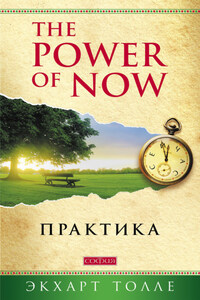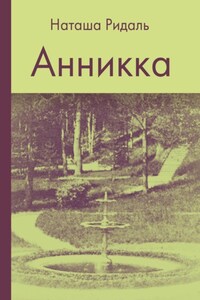Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?
Незадолго до своего двадцать первого дня рождения она узнаёт, что умрёт через полгода, а значит, пришло время попрощаться с вечно накрывающим город, недоизученным звёздным небом с ледяными сугробами, которыми уложено пространство штата, со спальней в постерах и виниловых пластинках, с любовью к человеку, который ненавидит себя.
| Жанр: | Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Будешь ли ты грустить, если Бетельгейзе взорвётся?
Книга заблокирована.
Вам будет интересно