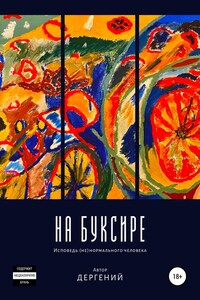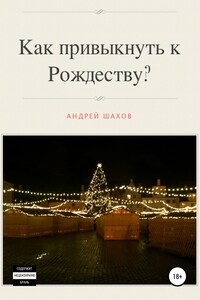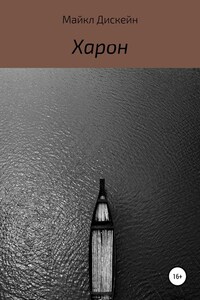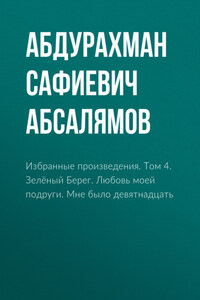– Дай.
Тонкая сигарета описала короткую дугу и оказалась в её пальцах, обронив по пути несколько тлеющих крупинок на простыню.
“Не метеоры, не кометы, а лишь останки сигареты”.
– Брось, ты просто очень устал, – сказала она после затяжки и выпустила красивое дымное колечко.
Вот за такие фокусы он и любил её.
– Да, я очень устал. Прости.
“Так вот как это называется после сорока – усталость”, – подумал Чаковцев. Мысль была как мысль, спокойная констатация. Она вернула ему окурок, несколько секунд полежала тихо и заёрзала. На дольше её никогда не хватало. “Сейчас вспомнит, что ей пора”.
– Блин, – сказала она с энтузиазмом в голосе, – да мне и некогда. Вот дура.
– Да? – поинтересовался Чаковцев. – Что такое?
– Тренировку перенесли, а я и забыла.
Она быстро и ловко одевалась, подхватывая с пола и кресел свои одежки. Чаковцев внимательно наблюдал, остро чувствуя запоздалое возбуждение и досаду от упущенного.
– Чаки… – она замялась на мгновение, – не подбросишь немного кэша?
Он замер. “Вот оно”.
– Да, Кошка, конечно.
Выудил из бумажника пару купюр. Она взяла – жестом чуть более небрежным, чем требовалось, помахала в воздухе:
– Мерси.
– Какие пустяки.
Он проводил её до двери, потом вернулся, постоял у окна, потирая машинально щеку, понюхал зачем-то пахнувшие помадой пальцы. Кошка внизу уже тормозила такси, на секунду подняла лицо, улыбнулась. Он не ответил.
“Летят безмолвные кометы
В пустом объеме без конца —
Всего лишь пепел сигареты
Как все уставшего Творца…”
Чаковцев приготовил кофе, сел и огляделся. Его квартирка, чудом уцелевшее после второго развода имущество, смотрелась его, Чаковцева, утренним отражением в зеркале: смятые черты никак не складывались в лицо; требовались десятки движений бритвы, щетки и расчески, чтобы собрать их вместе, подогнать и уплотнить до приемлемого, узнаваемого состояния – лица нестарого пока мужчины, мужчины с прошлым.
“Как минимум, с прошлым”, – подумал он с вызовом, так, словно кто-то значимый мог подслушать и оценить эту его мысль.
Итак, квартира его не рифмовалась. Пластинки, старый винил, громоздились шаткими башнями; дипломы конкурсов (с опасным избытком восьмерок), предназначенные для заполнения пустых стен, по-прежнему путались под ногами, некоторые уже и с треснувшим стеклом; книги отвращали Чаковцева нелепостью заглавий, нарочито, с претензией, простых или натужно глубокомысленных. Он хотел привычно солгать, что только принесенные Кошкой брошюры, весёлый трэш, освежают уныние его жилища.
Нет, кого он хочет обмануть… Чаковцев брезгливо подцепил одну, ближайшую, заранее морщась. “Ночь оживших мертвецов”, ага. Кошка читала эту муть с упоением, одну за другой. Лет десять назад от такой безвкусицы его бы стошнило, а теперь он сам…
Чаковцев помедлил и с отвращением процедил, словно дрянной бурбон: “Чаки”.
“Скрип-скрип…
Том прижался к сестре изо всех сил. Скрипят старые половицы – всё ближе и ближе. Скрипят доски под чужими тяжелыми шагами, гнутся старые доски.
– Мне страшно, Джейн, – захныкал Том.
– Не бойся, – девочка погладила брата по голове и добавила: – Нас им нипочем не достать.
– Но откуда ты знаешь?
Скрип-скрип… Скрип-скрип…
Джейн не ответила. Она, конечно, не могла признаться Тому, что боится не меньше, а быть может, даже больше, чем он. Проклятые мертвецы всё ближе, обступили со всех сторон, похоже, спасения нет. Она вспомнила, как костлявая рука схватила за горло дядюшку Элвиса, как ужасно переменилось его доброе лицо. Ну, нет, – Джейн топнула ногой и вздёрнула подбородок – кто-кто, а она так просто не сдастся каким-то полусгнившим уродам, и никакая, даже самая полная луна не поможет им добраться до них с братом.
– Мы выберемся, я тебе обещаю.