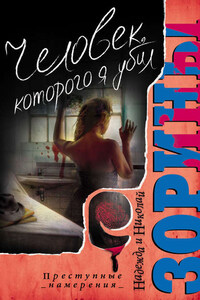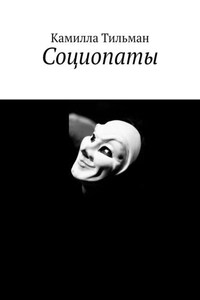До самого последнего момента он не верил, что я смогу в него выстрелить. Я тоже не верил, хоть долго и тщательно готовился к убийству. Мне не было страшно, но выстрелить я почему-то не мог. В моем представлении все происходило четко, стремительно и даже красиво. И не убийство это было, а казнь, согласованная с высшими инстанциями моей совести. Я должен всего лишь спустить курок и привести приговор в исполнение. Все просто. Сколько раз я прокручивал в голове эту сцену, сколько воображаемых выстрелов произвел! Назначил место и время. Рассчитал до секунды каждый эпизод казни. На все про все должно было уйти не больше пяти минут. Сегодня утром я был удивительно спокоен, так что же происходит теперь?
Он стоит передо мной и не верит, что сейчас умрет. Я тоже не верю, хоть и целюсь прямо в него. Сцена затягивается, напряжение понемногу спадает. За окном стучит дождь. По лицу его растекается улыбка, мои губы вздрагивают от едва удерживаемого смеха. Вот бы перевести все в шутку! Я вдруг понял, что не хочу его убивать! Еще утром хотел, а сейчас не хочу. Я… не смогу в него выстрелить.
Но палец, онемевший от напряжения, не мой палец, чужой – я его совершенно не чувствую! – нажимает на спуск. Со страшным грохотом разбивается зеркало. Его удивленное лицо – отражение моего удивления.
Эхо выстрела звучит в моей голове, вызывая страшную боль. Ослепительно ярко сверкают осколки. Запрокинутое лицо убитого мной человека, такое знакомое до мельчайших черточек, пробуждает ужас. Рука моя разжимается, что-то с громким стуком падает на пол. Пистолет. Уже абсолютно ненужный, лишний. Думал, не смогу, думал, ничего не получится. Смог. Получилось. Вот он лежит, удивленный и мертвый. Кажется, я даже уложился в эти назначенные пять минут. Что же дальше? Голова ужасно болит и мешает сосредоточиться. Я написал записку, в которой изложил причины убийства, значит, прятаться не собирался. Остается дождаться ареста. Скорей бы пришли!
Жду. Не приходят. Мертвая ночь. Мертворожденный дождь. Мне не вынести этого ожидания! Наедине с убитым не пережить эту ночь.
Пячусь, пячусь, не в силах оторвать от него взгляда, пячусь, пячусь и натыкаюсь спиной на дверь. Дверь распахивается, сбегаю по лестнице вниз.
Мокрая, скользкая, темная улица. Ветер, деревья тревожно шумят. Выстрел, конечно, услышали соседи – когда я вернусь домой, все изменится. Да разве я туда вернусь?
Бегу, беззвучно скользя, по черному мокрому тротуару, в ужасе убегаю прочь. И вдруг со всей отчетливостью понимаю, что убийство было напрасным. Теперь ничего не изменишь. Непоправимо и жутко.
Бегу, убегаю туда, где не было выстрела, где все по-другому, где можно начать сначала. Бегу, спотыкаясь, от себя, от него.
Улица кончилась. Город неузнаваем и страшен. Я заблудился, словно в кошмарном сне. С мокрой листвы падают капли с мутным, тягучим, мертвым стуком. Падают капли, и… слышатся чьи-то шаги. Кто-то тоже бежит по этой улице кошмаров, кто-то меня догоняет.
Удивление так и не сошло с его лица, но прибавилось еще какое-то выражение: боли, отчаяния. Мне нечем перед ним оправдаться.
– Убийство было бессмысленным, – повторяет он мою мысль, – убийство было совершенно бессмысленным, и теперь ничего не исправить. Ты оплатил все счета, перед тем как меня убить, раздал все долги, но этот счет никогда не закрыть, этот долг никогда не будет погашен. Ты оставил записку для тех, кто меня найдет, оправдал мою смерть, обвинив в том, в чем я виноват не был.
– Я не помню твоей вины, я забыл… – Слова мои выходят с трудом. Не слова, а капель с мокрых мертвых деревьев. – Твое устранение казалось единственным выходом, а теперь я больше ничего не знаю.