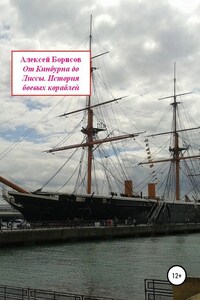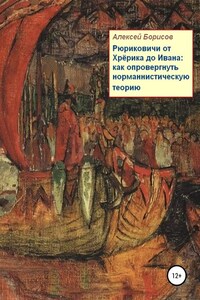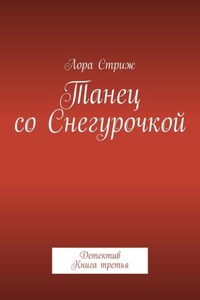Радостная, бодрящая, вселяющая уверенность и веселье музыка заполняла пространство. Характер её и сила звука были таковы, что исключали всякую возможность мысленной деятельности. Человеческий голос доносился, словно пробивая толстую перьевую подушку:
– Да выключите вы динамик! – гаркнул Кирилл Бобров хозяину кабинета.
Артур Иванцов повернулся к нему. Он стоял возле сплошного, во всю стену, окна, и весь вид его отражал довольство, легкомыслие и удовлетворение исправностью процесса пищеварения и прочими процессами, бытующими в его организме.
За окном развертывались геометрически правильные очертания космодрома.
Иванцов побарабанил себя пальцами по животу в районе желудка, потом – печени и вопросительно и снисходительно посмотрел на Боброва. Тот раздраженно и брюзгливо глядел на него. Иванцов неторопливо подошел к столу, налил себе виски, выпил и принял ещё более удовлетворенный вид. Даже склонил голову налево, словно прислушиваясь, как алкоголь переваривается в его желудке.
– Выруби эту дурацкую музыку!
Иванцов нажал на кнопку, и музыка словно прыжком перенеслась за стены кабинета – в этот час репродукторы отдавали волнами жизнерадостности и бездумья все прилегающее к космодрому пространство.
Оба присутствующих были не молоды – им было за пятьдесят и, скорее, даже под шестьдесят – и, соответственно, их знакомство имело солидный стаж.
Если господин Иванцов после смерти попадет в роскошную небесную гостиницу под названием «Рай», то в книге приезжих его запишут как крупного инженера, создателя космических кораблей, «Королёва XXI века», и немедленно поведут кормить райским яблочками.
Чертенятам же в аду трудно придется с Кириком Бобровым. Бе бо сложно им будет разобраться, за какие грехи надобно его карать: был он и писателем, и создателем социальных доктрин, и основателем собственной политической партии, которая наверняка победила бы в умозрительной республике справедливости, если бы эту республику удалось предварительно основать. Наибольшую известность он получил как автор романов, крепко настоянных на густом, мужественном, если не сказать, самцовском, восприятии мира – в стиле Хемингуэя, но похуже.
Внешностью они также сильно отличались друг от друга. Иванцов был чуть ниже среднего роста, по-юношески худощав и подтянут, у него был вид Монтеня или Декарта: нос с горбинкой и припухшие лукавые глаза. Мудрецкий вид его подчеркивали совершенно седые, но еще густые волосы.
Бобров был тяжел и грузен, трудно было отделаться от впечатления, что у него под пиджаком, между головой и бедрами, забит сложенный вдвое матрас; этот матрас передвигался с помощью тумбообразных ног, постоянно обутых в дурацкие, детского фасона сандалии, по площади подошвы немного превосходящие слоновью ступню. Сбоку к этому «матрасу» были приделаны две здоровенные, волосатые, веснушчатые ручищи, которыми он писал романы, ловил тунцов, стрелял оленей, тискал женщин и чинил свои дурацкие сандалии, когда они рвались или когда ему было просто скучно.
Голова у Боброва была большая, долихоцефалистая, на лице у него сумели свободно разместиться и высокий сократовский лоб, и массивный, пористый нос, и все это изобилие заняло не более половины поверхности; остальное ушло на обширную нижнюю часть лица, которая своей массивностью придавала ему несколько унылый и тяжеловатый вид. Очки на таком лице были совершение неуместны, но зато имелась тяжеловесная, старомодная (или ультрамодная) трубка, типа тех, которые были неотъемлемым декором капитанов кораблей Его Величества времен парусов и дымного пороха.
– Мой милый друг! 0тчего вы в столь скверном настроении? Сегодня такой прекрасный, радостный день! – пропел Иванцов.