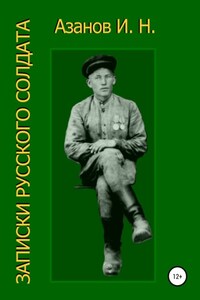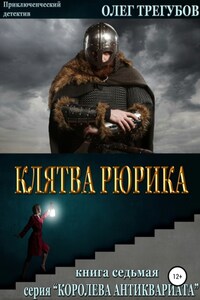«Это снова Троянская война, это новая Троя!» – воскликнул маршал Вайан.
«Там, где сталкиваются Север и Юг, Запад и Восток, множество войск собралось, чтоб схватиться на малом клочке земли. Десять лет под Троей – десять месяцев под Севастополем: на расстоянии трех тысячелетий, не стоят ли годы месяцев?» – Камилл Руссе, французский историк.
«Нет, ни одно из дарований, существующих ныне не только на Руси, но и в Европе, не в состоянии создать что-либо соответственное величию действа, развернувшегося перед нами! Только „Илиада“ сравнима с трагизмом нынешней войны!».
Н. А. Некрасов. 1854 г. Журнал «Современник»
Март 1855 года,
Севастополь,
IV бастион
Это можно было назвать боем…
Это можно было назвать подлинной бойней.
В белых облаках порохового дыма и серых тучах, создаваемых многочисленными мелкими пожарами, едва удавалось разглядеть, что происходит уже в трех шагах. В апокалипсическом грохоте казалось невозможно услышать даже собственного голоса. В горячке нервов и напряжении воли не поддавались разумению собственные действия, и отсюда рождались подвиги, немыслимые на трезвую, холодную голову…
Из жерл пушек беспрестанно вылетали рваные языки пламени.
Из плетеных тур вылетали обрывки прутьев.
Из мешков вылетали рои песчинок.
Из брустверов[1] – комья земли, и, наконец, из полотняных рубах и суконных шинелей вылетали клочья окровавленного тряпья…
В клубах стелющегося дыма за передним гласисом бастиона кипит грязно-синее море шинелей. В низких амбразурах передовых батарей густо мелькают красные шаровары, стучат сабо, надетые на гетры из овечьей шерсти, а зачастую топают и русские сапоги. Наконец-то в ружейно-пушечном грохоте можно расслышать нестройный хор: «Vive l'Empereur!» – и синий прилив с барабанным боем проваливается волна за волной в ров перед бастионом. Мгновение, и на краю рва возникают концы осадных лестниц, кепи с красными околышами и даже изодранные знамена над частоколом длинных штыков, но тут же с дьявольским визгом пролетает, сверкая, картечь и сносит массу тел обратно в ров. Фонтан алой крови брызжет на месте головы старого тамбурмажора, взмахнувшего было барабанными палочками; чей-то нечеловеческий вой примешивается к реву наступающих, перекрывая его на секунду. И окончательным аккордом атаки грохнул фугас, разбрасывая пуды камней во все стороны…
На IV бастион наступают французы.
Май 1905 года,
С.-Петербург
Древний старик в столь же древнем вольтеровском кресле зябко потер руки, с трудом распрямляя подагрические пальцы, и посмотрел на медный циферблат настенных часов. Редкие седые пряди спускались на плечи тоже совсем по-вольтеровски, отчего могло показаться, что обладатель почтенных седин наблюдает за течением времени не десятилетиями, а веками.
Одет старец был по-домашнему, в засаленный халат, из-под которого, впрочем, стойко подпирая дряблую шею, белел накрахмаленный ворот рубашки.
– Танюша, голубушка, лафитничек[2] казенной, – скрипуче попросил старик.
– Стоит ли, Александр Львович? – донесся откуда-то из глубины квартиры, наверное с кухни, свежий девический голос. – Опять начнете с лафитничка, а кончите сердечными каплями.
– Не спорь, Таня, – поморщился Александр Львович.
– Есть в этом что-то от «Корабля дураков» Брейгеля, – произнес молодой человек в новеньком синем вицмундире, недавний выпускник юридических курсов, а теперь – присяжный поверенный, иными словами – адвокат. Стоя возле высокого арочного окна и рассматривая что-то на улице, он указующе постучал по стеклу.
Старик тоже повернулся в сторону окна и, не отрывая взгляда мутных глаз, проворчал:
– От «Корабля дураков»? Скорее уж от «Шествия слепцов».
За окном, словно жужжание мухи, заключенной между рамами, раздавались многоголосое пение и шум демонстрации, краснознаменные отсветы которой, казалось, пляшут даже на потолке вокруг тяжелой бронзовой люстры.