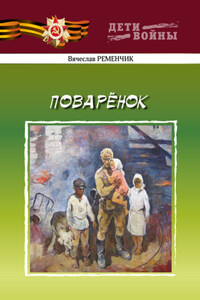А на улице дождь… ождь…
А за окнами гнусь… усь…
Ты ко мне не придешь… дешь…
Я к тебе не вернусь… нусь…
Анатолий Аврутин
* * *
Она, не открывая глаз, мягко положила голову мне на плечо и, привычно скользнув теплыми ладошками по груди, обхватила шею своими тонкими нежными руками.
– Ты слышишь, как поет дождь?
– Ну что ты, милая, разве ж это песня? – как обычно, словно общаясь с ребенком, ответил я. – Это просто крупные капли без толку барабанят по подоконнику.
– Дурачок, ты, как всегда, меня не понимаешь, – она чуть-чуть приоткрыла веки, и из-под золота длинных ресниц блеснули яркие огоньки зеленых, как майская весна, глаз. – Ты слушаешь ушами, так ты никогда не услышишь песню дождя.
Эти разные по настроению строки бережно достаю из глубин моей памяти, из ее самых, ранее никому не доступных, закромов. Пишу, перечитываю написанное и снова пишу, тем самым снова и снова погружаюсь в сладостные и одновременно терзающие душу воспоминания, вызываю в себе давнюю, но не забытую, сердечную боль, свежесть чувств и всепоглощающую страсть.
Мы встретились на многолюдной, но неимоверно скучной для нас обоих «маевке», устроенной на Чистых прудах моим близким другом, именитым московским художником Александром Макушиным. В один из солнечных, украшенных буйным цветением сирени, деньков в его шикарной двухэтажной квартире с мастерской на большой светлой мансарде (моей вечной мечты) собралась разноликая творческая элита, как выразился мой друг, «те из народа, кто почему-то возомнили себя великими и гениальными». К своему величайшему стыду, я никого из «великих и гениальных», приглашенных на этот шумный сабантуй, не знал. К слову, меня, скромного хабзайского учителя живописи и рисунка, никто из присутствующих тоже не знал, кроме, разумеется, хозяина этого просторного с парадным творческим беспорядком жилища, поэтому я был лишен участия в таком обязательном на таких мероприятиях ритуале как «теплые дружеские обнимашки» и неискренние «рад видеть», о чем нисколько не жалел. Мне даже нравился этот нечастый для меня статус-кво, и я не пытался его никоим образом нарушить, к примеру, радостно подпрыгнуть при виде какого-либо напудренного старичка с пестрым шейным платком под двойным подбородком, манерно прокричать, что-то типа: «Боже, какие люди без охраны» и нежно прижаться к дряблому, упакованному в «Кристиан Диор», телу. Уверен, что, при должной артистичности этого трюка, я бы сошел за своего, и очень скоро попивал бы «Пина коладу» под душевную беседу с этим самым старичком и ему подобными визитерами. Однако демонстрации таких дешевых фокусов я предпочел бесцельное брожение по полупустым залам Сашкиной резиденции, подогревая в руке любимый «Вольфберн морвен» с давно растаявшими кубиками льда. Пока гости кучковались в каминном зале первого этажа, я бесцеремонно копался в мастерской воистину «великого живописца», где, не без удовольствия вдыхая родной запах масляных красок, восхищался свежими, несомненно талантливыми, холстами моего друга. Александр Макушин был мастером городского пейзажа, иногда, как он сам выражался, «грешил» с молоденькими натурщицами в «портретных бдениях», что тоже получалось талантливо и даже неординарно. [1][2]
Завершив осмотр «лаборатории бессмертных творений», так помпезно, но, по-моему, справедливо, называл мастерскую на мансарде ее хозяин, я приступил к захватывающему обозрению хаотично валяющихся в разных, порой самых неожиданных, местах карандашных набросков на бумаге и картоне, сиюминутных акварельных и масляных этюдов в толстых папках и россыпью, а также незавершенных по каким-то причинам живописных полотен.