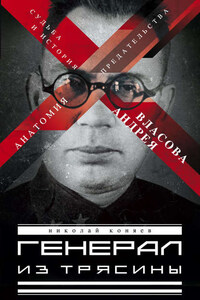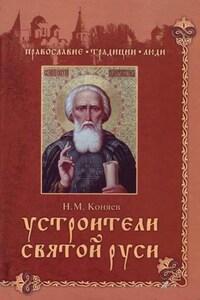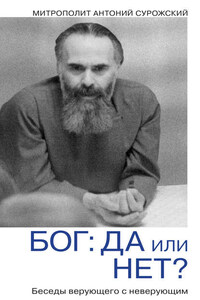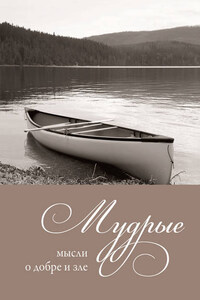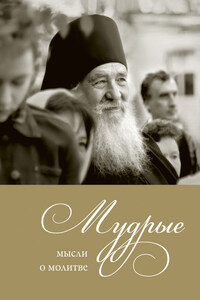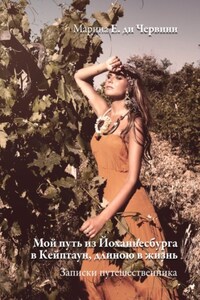Вагон, набитый тревожными дорожными снами и темнотой, пропахший несвежими носками, шатало всю ночь. Только в пять утра добрался отец Игнатий до своей станции.
Уже проступали из рассветных сумерек серые терриконы, тусклая заводская вода, черные трубы, грязноватые пятна жилых массивов вдалеке…
От этого безрадостного пейзажа тоскливо сжималось сердце, словно предстояло пройти по преисподней. Но другого пути не было, и, подхватив нагруженную свечами и книгами тележку, отец Игнатий зашагал к автостанции.
Шел мокрый снег… Колеса тележки застревали в снежной каше, и тележку приходилось не катить, а волочить за собой. Отец Игнатий взмок, пока добрался до тонущего в грязи пятачка автостанции, где возле похожего на сарай здания теснились разноцветные кооперативные ларьки. Некоторые из них уже работали.
Купив билет на Петровское, священник устроился в уголке зала ожидания. Перебирая четки, повторял он слова молитвы, стараясь не смотреть на замусоренный пол, на стены, покрытые грязными разводами подтеков. И на компанию молодых людей, что сидела напротив, он тоже старался не обращать внимания.
Нехорошая была компания…
Все трое были одеты, как в униформу, в черные кожаные куртки. На ногах – яркие, заляпанные снизу штаны и сапоги-луноходы с проступающими на них из-под слоя грязи иностранными лейблами…
Бутылки с разноцветными наклейками бродили по рукам.
Похоже было на проводы.
Провожали Мишуху – светловолосого паренька с искривленным, сломанным, наверное, в драке носом. Был он пожиже своих приятелей. Кожаная куртка болталась на его плечах, как чужая. И точно так же, как куртка, чужими были жесты, чужой – кривящая губы усмешка…
Отвлекшись от молитвы, отец Игнатий подумал, что, наверное, поэтому и производит Мишуха такое неприятное впечатление. Он весь был как-то опасно непредсказуем…
Отец Игнатий пожалел, что не устроился в стороне от компании, надо было сесть у дверей, где толкались у кассы пассажиры… Но пересаживаться сейчас? Нет… Перебирая четки, священник опустил голову, стараясь не смотреть на молодых людей.
Он снова представил, как приедет наконец на приход, где зима как зима и река настоящая, и лес, а главное – видимый отовсюду парит над округой храм, собирая и наполняя смыслом и красотой окрестность…
– А я подойду! – перебил его мысли голос. – Сам у попа спрошу!
Отец Игнатий поднял голову и увидел, как, оттолкнув черноволосого, более трезвого на вид приятеля, встал со скамейки напротив Мишуха.
– Батюшка… – обдавая священника тяжелым запахом перегара, сказал он. – Я с тобой потолковать хочу…
– В храм приезжай… – ответил отец Игнатий. – В порядок себя приведи и приезжай. Там и поговоришь.
– Нет… Я сейчас хочу.
– Кончай барахлить, Мишуха! – сказал черноволосый парень. – Чего к попу лезешь?! Тут же народ!
– Отвали, моя черешня! – По искривленному Мишухиному лицу блуждала пьяная ухмылка, и все никак не приклеивалась к кривящимся губам. – Мы сейчас, вась-вась, с батюшкой потолкуем… Чего ты смотришь так на меня? Может, я исповедаться желаю…
– Рассказывай… – смиренно вздохнул отец Игнатий. – Чего у тебя?
– Ага… – сказал Мишуха. – Я скажу, а ты меня в ментовку потянешь… Что? Не так?
– Ну, тогда и не говори, если боишься…
– Я боюсь? Я ничего не боюсь, понял? Просто мне узнать надо… Если Бог есть, то грех это – иконы в церкви украсть?
– Бог-то есть… А ты сам кто, крещеный?
– Крещеный, конечно… – даже обиделся Мишуха. – Чего я, нерусский, что ли? Бабка меня крестила…
– Ну, а раз крещеный, да еще русский, то знай, Михаил, что больше этого греха и не бывает, наверное.
– Не бывает?
– Не бывает…
Захрипел динамик. Объявили посадку. Пассажиры, что толпились у двери, затолкались у выхода. Приятели Мишухи тоже встали.