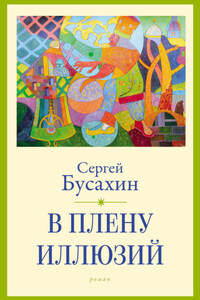Снова меня поминает янтарное лето:
На тротуаре листок непонятного древа.
Знаешь, а я подберу тебя, это примета:
Лист незнакомый найти, словно весточку с неба.
Прячься, листок, под обложкой дорожной тетради,
Там столько сказок для мной не рождённого сына.
Словно письмо. От кого? И зачем, Бога ради,
Запах листка просыпается, терпкий и винный.
Славно идти, не тая от прохожих улыбки.
В сумке письмо от напрасно прожитого лета:
– Нет ни порок, ни упрёк, ни людские ошибки
Не отлучают от неумолимого света.
Словно письмо от того, кто никак не вернётся:
– Душу свою разлюбил да и пропил с досады.
Только тебя удержал я древесной ладошкой -
Листиком на мостовой, побелевшей от яда.
Словно письмо от того, кто душе твоей пишет:
– Знаешь, темно оттого, что никто не горит.
Знаешь, темно оттого, что от страха не дышишь
И не поёшь. А безмолвие – только болит.
Снова тебя вспоминаю, янтарное лето.
Я ничего не прошу, ничего не воскреснет.
Здравствуй, спасенный листок, мимоходом согретый.
Здравствуй, душа! С днем рождения, новая песня.
29.01.19
Ждёт в заснеженном дворце императрица.
Ждут поляки непокорные ответа.
Ждёт приказа верный флот. Ему приснится
Тень короны, тень кнута и ночка эта…
И бесчестия страшнее, и мученья,
И немилости страшнее – как покорно
Это страшное «орлово приключенье»,
Ясноглазая красавица Ливорно.
Как тонка её рука и как жестока:
То прильнет, а то отринет. То укроет.
Как близка её душа и как далёка,
То поманит, то обманет. Только двое.
Только двое остаются на рассвете.
Кутежи, поляки, вздорные дворяне -
Все остались там, за дверью. Не ответит.
Только к сердцу прикорнёт, как к страшной ране.
И спешат часы, спешат, и горе близко:
Не взойдёт она по сходням, а падёт.
Будет лютая зима-императрица,
Будет крепость, будет пытка и исход.
Но пока ещё Ливорно, флот на страже.
И насытиться не в силах, и без слов
Он клянётся. Он предаст её. Не страшно.
Страшен век. Екатеринский. Орлов.
29.01.19
Бунтует за окном зима московская,
Тяжёлая и вздорная погода.
И мокредь в ней, и наледь в ней – замерзла я,
Как сердце, утомлённое невзгодой.
Как сердце, утомлённое отчаяньем,
Забыться не способное в быту.
И юность мне казалась обещанием,
А вылилась в бессильную тщету.
Но чем года труднее и безрадостней,
Тем ярче мне даруется огонь.
Тем глубже и полнее голос сладостный
Снисходит и берёт меня в полон.
И он снисходит – Гамаюн ли, Сирин ли…
Но птицей он падёт, разъяв крыла,
И всё развеет. Вновь душа – как вымели
Обиды и ненужные дела.
Я не коснусь ни краешка, ни пёрышка,
Лишь буду его слушать, не дыша.
Скормлю ему сияющее солнышко,
Которым вдруг окажется душа.
И будет до весны благословением
Напев его, прощением грехов.
А по весне, дождавшись воскресения,
Вернётся он к престолу облаков.
И если бы я птицы той не ведала,
То жизнь была бы злом и темнотой.
Была бы только яростью и бедами,
Полынью и погасшею звездой.
Бунтует за окном зима московская,
Тяжёлая привычная зима.
Я снова нахожу перо неброское
Из верного знакомого крыла.
Девятый день с рождения души.
Уже Москва не кажется тюрьмой.
Уже почти не пишешь: «Разреши,
Побыть в тепле твоем.»
Молчишь со мной.
Молчат огни Кузнецкого моста,
Молчат Большой и Малый на закате.
Но так светла Москва и так чиста,
Как никогда не шитое мне платье.
Я этот город знала "от и до",
До той поры, пока тебя не знала.
А нынче словно в первый раз всё то,
Что я давно прошла и потеряла.
Девятый день с рождения души…
Слепит снег, солёная пороша.
Снова сыпет снег над Ленинградом.
У метро остановись, прохожий:
Скрип салазок бродит Летним садом.
Не дойти до Бога, до наркома,
До весны. Снега над Ленинградом.
Не дошли машины, эшелоны.
И никто не вышел из блокады.
По каморкам спят до срока крупы.