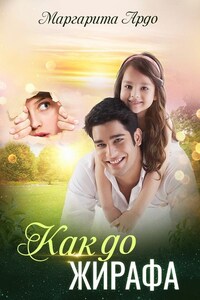Есть два типа социологических исследований. Одни исследователи принимают за точку отправления судьбы общества или цивилизации, сводят задачу науки к познанию существующего и не могут или не желают дать руководящую нить для практики. Другие отправляются от судеб личности, полагая, что общество и цивилизация сами по себе цены не имеют, если не служат удовлетворению потребности личности; далее эти исследователи думают, что наука обязана дать практике нужные указания и изучать не только существующее, а и желательное. Который же из этих двух типов социологических исследований одобряется и который отвергается гр. Толстым?
Изучив сочинения этого замечательного писателя со всем тщанием, на какое я способен, я отвечаю: не знаю. И это не потому, что он, должно быть из боязни модного слова, несколько презирает «социологию». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза». Не важно, нравится кому-нибудь или нет слово социология. Важно то, что всякий, изучающий какое-нибудь общественное явление, необходимо держится одного из двух поименованных типов социологического исследования. Надо держаться которого-нибудь одного, потому что они логически исключают друг друга. Логически – да, но фактически они могут уживаться рядом, и в таком случае шуйца не будет знать, что делает десница, и наоборот. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно в таких взаимных отношениях. Поэтому-то я и отвечаю на свой вопрос: не знаю. Не знаю потому, что из сочинений гр. Толстого можно извлечь очень резкие суждения в пользу обоих, логически исключающих друг друга типов исследования.
Много лет тому назад гр. Толстой занялся педагогиею и занялся так, как у нас очень редко кто занимается своим делом. Он не только не принял на веру какой бы то ни было готовой теории образования и воспитания, но, так сказать, изрыл всю область педагогии вопросами. Это зачем? какие основания такого-то явления? какая цель такого-то? – вот с чем подходил гр. Толстой и к самой сути педагогии и к разным ее подробностям. Делал он это с истинно замечательною смелостью. Смелость бывает разного рода. Есть смелость дикарей, подбегающих к самым жерлам направленных на них пушек, чтобы заткнуть их своими шляпами; это – смелость невежд, не имеющих понятия о трудностях предпринимаемого ими дела. Есть смелость Угрюм-Бурчеевых, смелость мраколюбцев, почерпаемая в беззаветной ненависти к свету. Есть смелость нравственно пустопорожних людей, готовых идти в любой поход без всякого умственного и нравственного багажа, без знаний и убеждений и не рассчитывающих на победу, но и в поражении не видящих чего-нибудь печального или позорного. Есть смелость отчаяния, когда человек сознает, что дело его проиграно, и бросается в самый пыл битвы, чтобы погибнуть. Есть смелость бретеров, жаждущих борьбы для процесса борьбы. Есть, наконец, смелость людей, глубоко преданных своему делу и верящих, что оно не сегодня-завтра восторжествует, что оно должно восторжествовать. Ввиду идеала, который им так ясен и близок, им не приходится гнуться перед господствующими мнениями, не приходится в оставленном ими храме видеть все-таки храм и в низверженном ими внутри себя кумире все-таки бога. Педагогические воззрения гр. Толстого налицо (они собраны в IV томе его сочинений), и всякий непредубежденный человек должен признать, что смелость его была последнего рода. Он, например, открыто восставал против университетского образования в такое время, когда общество ценило его очень высоко; но восставал, надо заметить, совсем не с точки зрения Магницкого, ныне у московских ученых опять получающей вес и значение. Он отрицал университеты не потому, что боялся света и свободы, и не потому, что желал какой-нибудь монополии высшего образования, предоставления его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсем напротив, он находил, что университетское образование не свободно. Далее он, например, говоря, собственно, о народных училищах, самым серьезным образом повторял вопрос знаменитой г-жи Простаковой: зачем нужна география? Тут двойная смелость. Смело задать этот вопрос, но еще смелее указать, что он был уже задан одним из наиболее осмеянных литературных типов и стал даже некоторой притчей во языцех. Я убежден, что ни один самый завзятый мраколюбец, даже полумифический Аскоченский это сделать не посмеет, а посмеет только человек свободного и пытливого ума, вложивший свой особенный смысл в вопрос матери Митрофанушки. Только человек, поднятый знанием дела и любовью к нему на известную высоту, осмелится придать некоторое значение вопросу глупой Простаковой и тут же рядом скептически взглянуть на какое-нибудь изречение весьма ученого и даже умного мужа. Но понятное дело, что такая смелость и свобода отношений к изучаемому предмету не могут прийтись всем по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыпят целых три короба либеральных, но не идущих к делу возражений в таком роде: а! так, значит, вы солидарны с г-жой Простаковой? Поздравввляю! Затем начинается победоносное нашествие на г-жу Простакову, которое оканчивается, разумеется, победой, а победа над глупой, грубой и необразованной г-жой Простаковой убеждает возражателей и кое-кого из читателей, что они необыкновенно умные и высокообразованные люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что воззрения, высказанные гр. Толстым самым резким, определенным образом, но с подробным мотивированием в журнале «Ясная Поляна», были встречены неодобрительно. Даже г. Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе, даже и тот, хотя и погладил его по головке, но в значительной степени против шерсти. Большинство видело в «яснополянских» теориях, сомнениях и вопросах только мистический ультрапатриотизм и славянофильство, то есть то именно, что и ныне валят господа педагоги на гр. Толстого, как шишки на бедного Макара.