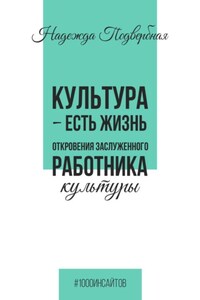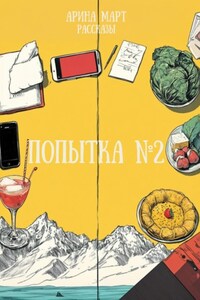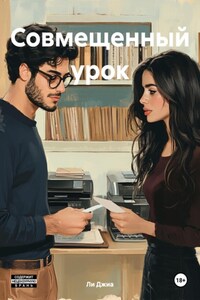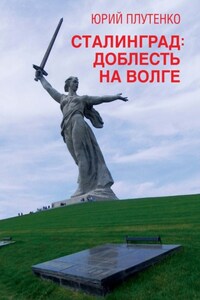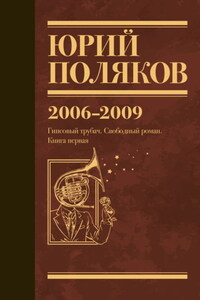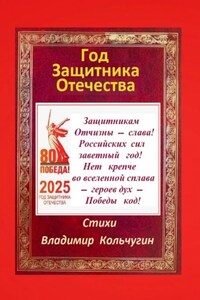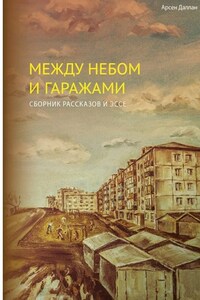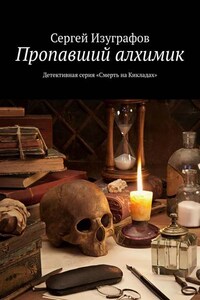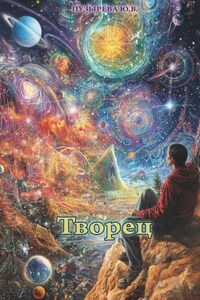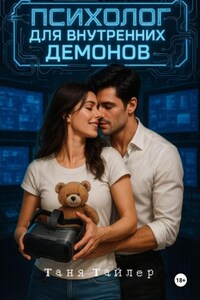Обычно, когда человек болеет, он вспоминает детство. Все эти злоключения еще неокрепшего, только растущего юного тела очень сильно врезаются в память, а ты говори, Память! – это чувствовал В. Набоков (Дар, Пнин далее везде). Запах больницы, холод градусника (когда-то они были стеклянные – электричество и пластик победили даже прозрачные вещи). Отвратительный вкус лекарств, приобретающие высшую степень горечи именно во время болезни – будучи испробованы уже выздоровевшим чадом-испытателем эти микстуры уже не казались такими уж противными. И главное, это сама болезнь с непонятным, неразгаданным началом – едва уловимый феномен удушья (“разве это болезнь, нет, просто слабость!”), и с очаровательным финалом: болезнь – настойчивая любовница, она всегда затаскивает в постель.
Болезнь отвратительна: ребра как обручи сжимают сердце, саднят веки и знобит все тело. Только послушный к аналогиям идиот придумал сравнивать нарушение нормальности жизни с любовью. Последняя не воскрешает никаких воспоминаний. В отличие от первой, любви не требуется усвоенного паттерна из детства (привет, Фрейд, знаю, ты не согласен), ей не нужно вообще ничего. То ли дело болезнь! Резкий поворот головы заставляет потолок и стены уплывать в миражное измерение, буквы перемещаются, прячутся одна за другой и уже совершенно плевать какого они цвета (хоть алого), лишь бы они остановились и закончился этот до предела шутовской danse macabre символического.
Болезнь прекрасна, грядущее выздоровление, которое, прячась словно больной за двумя одеялами, все равно неизбежно как летнее тепло, маячит где-то в близлежащем будущем. И знаешь, что после этого мрачного состояния будет лучше. Даже лучше, чем было до, болезнь в неравной для нее схватке (пока неравной) проиграет, но она не перестает учить нас наслаждаться здоровой жизнью.
Почему художники, воруя этот мир по частям на свои полотна под гашишем, абсентом, экстази не описывали его под скарлатиной или ангиной? Болезнь наново учит смотреть на вещи и слова, здесь срабатывает остранение В. Школовского – в литературном мире внезапный прием – оказывается тихой, вкрадчивой соседкой плывущего в бреду сознания. Вот обои с их отвратительным рисунком: представь, что кто-то рассыпал зубочистки и они лежат в мерзком несовершенном порядке, ни прямых углов между линий, ни одного правильного треугольника. Но не отпускает мысль, что за ширмой этой видимости бездарного беспорядка, скрыт определенный смысл, что стоит только поймать мысль, не дать ей стать слепой ласточкой и загадка будет разгадана. Но как бы человек не старался, тайна остается в потаенности, заставляя представителя человеческого рода продолжать эту охоту за смыслом.
В свою очередь творчество как феномен человеческого духа, включающий воображение, интуицию, критическое и метафорическое мышление, требующий нестандартности и креативности, предполагает своей целью эту самую охоту за смыслом, занятие смыслотворчеством. Но как отличить творчество от других человеческих практик? Невозможно сводить творчество исключительно к созданию оригинального и уникального продукта, так как это ограничивает его суть. Такое отождествление проблематично из-за сложности определения самой "новизны". Особенно ошибочно это выглядит, если учитывать, что смысл существует только в восприятии субъекта. Творчество – это способность мышления порождать, открывать, формулировать и создавать культурные и художественные смыслы, словно заново открывая мир. При этом новизна и оригинальность, хотя и важны, являются необходимыми, но далеко не достаточными критериями для понимания сути творчества.
Однако определение творчества как простого взаимодействия между автором и читателем, где происходит создание и восприятие смысла, также оказывается недостаточным для понимания искусства. Например, в рамках такого подхода невозможно отличить выдающиеся классические произведения поэзии от продуктов массового искусства, поскольку отсутствуют дополнительные критерии, задающие глубину и значимость смысла.