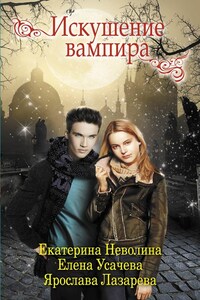Ветер нес из-за реки запах торфяного дыма. В парке неподалеку гудел, пробуя строй, уличный оркестр. По желтой театральной афише ползла близорукая муха. Другие мухи читали афишу издали и даже, кажется, на лету обсуждали прочитанное.
На берегу у парапета стояла юная дева в беретике и летнем пальто, любовалась вечерним небом. И пейзаж стоил того, чтобы им любоваться – заречными далями, над которыми уже собиралось вечернее марево. Густой такой красноватый чай, настоянный на торфяном дыму.
Тишина и покой.
Чуть в стороне на скамеечке устроился худой невысокий мужчина в потертом френче времен прошлой войны. Он и сам выглядел потертым в унисон одежде. И удивительно гармонично выглядел на зеленой наборной лавке, которую, похоже, не красили с тех же времен. Человек курил.
Дым его папиросы поднимался вертикально вверх – так дым из трубы в сильные морозы стремится к небу. Человек смотрел на плывущий дым и краем глаза на девушку у парапета.
Солнце пролилось на горизонт ртутью.
Человек погасил окурок о чугунный каркас скамейки, бросил его в урну. Тяжело поднялся. Девушка продолжала стоять, вглядываясь в темнеющее небо, ветер шевелил рыжеватые от солнца пряди.
– …а может, все правильно, – сказал человек вслух. – Да, Сережа?
Невидимый собеседник, наверное, ему что-то ответил. Потому что человек криво улыбнулся и, ссутулившись, побрел прочь от набережной. Когда он скрылся за углом, девушка словно проснулась. Отвернулась от погасшего неба и шаркающей походкой старухи побрела в сторону лестницы на бульвар. Туда, где вполсилы наигрывал оркестр. Туда, откуда долетали звуки шагов и голосов.
Лучше всего любоваться нашей локацией с крыши Дворянского собрания. Эта точка существенно ниже католической колокольни на Северном холме, но зато отсюда не видно ни корпусов Производства, ни стадиона. Отсюда город похож на город, каким он должен был быть. И неважно, когда. Просто – должен. А не был. Ни один миг своего существования он не был таким, каким виделся мне с крыши. Спокойный провинциальный городок, с пыльными парками, в которых качели, голуби и кошки, с редкими мосластыми автомобилями, у которых лаковые борта и брезентовые крыши, а фары напоминают профессорское пенсне. Дети лопают мороженое, зажатое между двумя вафельными кругляшами. Взрослые… о, да. Взрослые.
Отсюда, сверху, видно, как гуляют по скверу хорошо одетые пары или как уверенной походкой торопятся куда-то озабоченные полисмены. Как уличные музыканты устраиваются в ракушке сцены подле танцевальной площадки. Отсюда кажется, что город живет.
А он заводная игрушка, брошенная детьми.
И оттого мне иногда хочется сделать что-то такое, что заставит игрушку остановиться. Перестать делать эти бессмысленные движения, заставит ее выключиться.
На крыше я чувствую себя немного властелином мира. Здесь моя мастерская на ближайшие вечера. Когда я художник, то мне кажется, что при помощи красок я хотя бы на картоне могу сделать это место чуть менее фальшивым.
Правда, чаще я не художник, а офис-менеджер.
Просыпаясь утром, я точно знаю, какими будут ближайшие часы моей жизни… они ничем и никогда не отличаются. «Выбрала себе творческую профессию – иди на Производство. Не хочешь – ищи другой источник дохода». Что правда, то правда – на Производстве художники и сценаристы нужны не меньше, чем механики и биоинженеры. Вот только я туда не пойду. Там искушение «сделать что-нибудь этакое» станет непреодолимым. Именно там сидят ловкачи и трюкачи, что сделали наш мир таким, какой он есть. Хрупким, зависимым и ненастоящим.
Там конструируют, собирают, настраивают, утилизируют, даже иногда ремонтируют – биотов…
Мое утро однообразно. Заглянуть в доставку, разогреть и съесть завтрак. Глотнуть немного эмульсии, запить, чтобы лучше прижилась, этиловым спиртом… и вперед, в ванну. Цеплять контакты захвата мышечных реакций, дразнить свое отражение в зеркале… а потом ждать связи с дежурным биотом в офисе конторы.