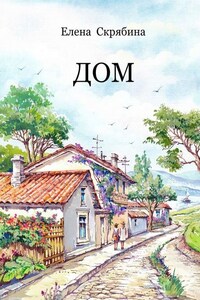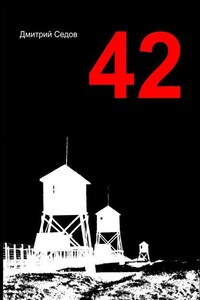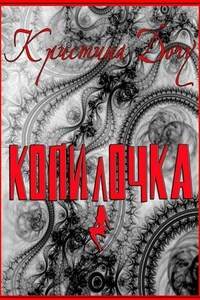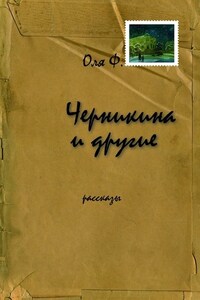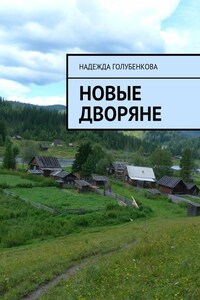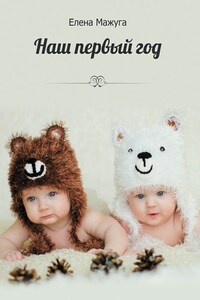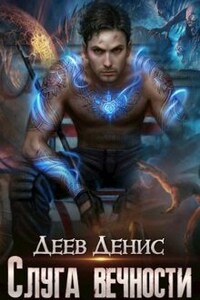Осенью природа красуется перед нами, словно женщина, которая уже твердо знает, что уходит от любовника. Надевает какие-то невиданные одежды, обвешивается рубинами и золотыми бабкиными монистами, покупает где-то сотню бабочек, прикармливает два десятка птиц, летящих из Африки. Зачем, спрашивается? Скажи честно: я ухожу. И иди себе! Нет! Надо измучить, показать все свои наряды, потанцевать, поцокать каблучками. Вытащить из упакованного чемодана какие-то невиданные духи – аромат переспевшей изабеллы, запах осыпавшейся листвы или груды черных роз.
Неужели надо срезать все хризантемы и астры, расставить их в ведрах по улицам и рынка?
Убывает своей красотой, приплясывает, раздражает зрение всеми красками и запахами. Не мучай! Иди! Забери с собой все солнце, все тепло, все свои овощи и винограды! Замети снегами и залей дождями, но только не будь такой жестокой!
Зачем это солнце, эта июльская жара? К чему нам твой мускат по две гривны? Скажи честно: «Good bye!»
Нет, теперь ровно два месяца будет эта красотка дразнить и мучить своего любовника, пока не станет на черное зеркало моря и не побежит по лунной дорожке.
И тогда уже не сможет отпустить ее измученный влюбленный. Бросится по берегу за ней. Захочет вскочить на лунную дорожку черной морской воды. Но она уже далеко. А ему, мокрому, дрожащему, надо плестись домой. Забудет ее, отогреется, влюбится в еще большую красавицу – Лето, а тут снова она вернулась – Осень. И опять все с начала!
Первые годы моей школьной жизни прошли в очень старой (сто девяносто лет!) школе, где учился еще Айвазовский. Находится школа в самом развеселом районе Феодосии – на Форштадте.
Жили на Форштадте в середине семидесятых годов портовые рабочие, набивщики папирос с табачной фабрики, кочегары, профессиональные шулеры. Их дети ходили в школу, где в одном из классов, наверно, и до сегодняшнего дня сохранили высокую деревянную парту с углублениями для перьевой ручки и чернильницы.
За этой партой до войны сидел мальчик, застреленный немцами во время трех лет оккупации Феодосии. После войны мальчику поставили памятник в ближайшем сквере, а за легендарную парту сажали девочек-отличниц. Сидеть за этой партой мне не довелось, да и речь не о ней.
Настоящая жизнь у нас начиналась после школы. Собираясь на круглой крошечной площади перед магазином, мы бегали по дворам, добывая макулатуру и металлолом. Забирались на угольные кучи у ворот домов и огромные старые деревья шелковицы-американки, закапывали «клады», отправляли письма в бутылках в море.
На дни рождения родители моих одноклассников накрывали стол с обязательным наполеоном, лимонадом, вазочками конфет. Обычно это были самые скучные часы нашей детской жизни. Родители именинника приторно расспрашивали, у кого сколько «пятерок» и «четверок», пичкали нас пирожными. А на улице уже ждала новая угольная куча или поспевшая за высоким забором черешня, закрытые и таинственные дворики каких-то старушек, куда надо было проникать с огромным риском.
Но один день рождения запомнился мне на всю жизнь. Именинница жила очень высоко, где Форштадт вскарабкался на склоны горы Тепе-Оба. Собравшись на площади, мы долго поднимались среди потоков грязной воды, мусорных куч. Чисто выбеленные, аккуратные домики остались далеко позади. Чем выше, тем беднее становились саманные дома. Деревья на щебне склона уже не росли, даже трава выгорала к концу мая.