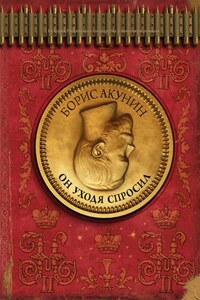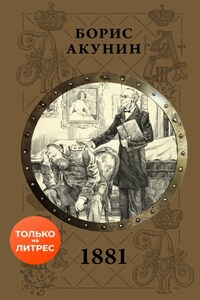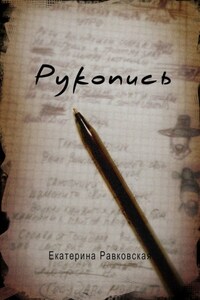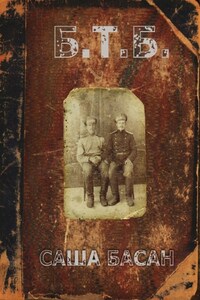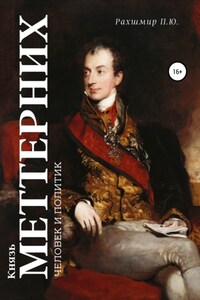Дорога в Китеж
Это роман идей и приключений, потому что в России идея всегда – приключение.
Действие происходит в эпоху великих реформ и великих общественных потрясений второй половины XIX века, когда определялся путь, по которому пойдет страна, и еще мало кто понимал, куда этот путь ее приведет.
| Жанры: | Историческая литература, Исторические детективы |
| Цикл: | История Российского государства в повестях и романах |
| Год публикации: | 2021 |
Еще из серии История Российского государства в повестях и романах
- Дорога в Китеж (адаптирована под iPad)
- Дорога в Китеж
Читать онлайн Дорога в Китеж
Книга заблокирована.
Вам будет интересно