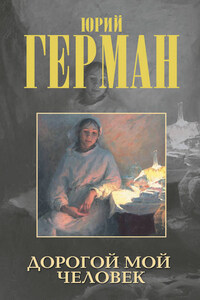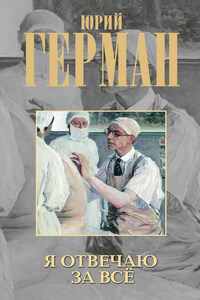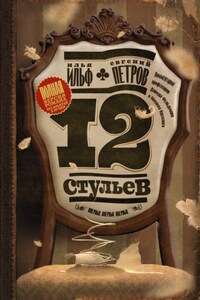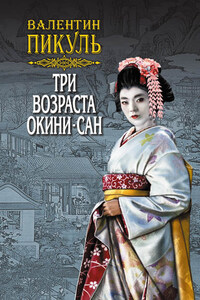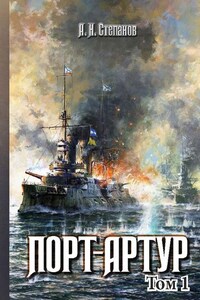Международный экспресс тронулся медленно, как и полагается поездам этой наивысшей категории, и оба иностранных дипломата сразу же, каждый в свою сторону, раздернули шелковые бризбизы на зеркальном окне вагона-ресторана. Устименко прищурился и всмотрелся еще внимательнее в этих спортивных маленьких, жилистых, надменных людей – в черных вечерних костюмах, в очках, с сигарками, с перстнями на пальцах. Они его не замечали, с жадностью глядели на безмолвный, необозримый простор и покой там, в степях, над которыми в черном осеннем небе плыла полная луна. Что они надеялись увидеть, переехав границу? Пожары? Войну? Немецкие танки?
На кухне за Володиной спиной повара тяпками отбивали мясо, вкусно пахло жареным луком, буфетчица на подносе понесла запотевшие бутылки русского «Жигулевского» пива. Был час ужина, за соседним столиком брюхатый американский журналист толстыми пальцами чистил апельсин, его военные «прогнозы» почтительно слушали очкастые, с зализанными волосами, похожие, словно близнецы, дипломаты.
– Сволочь! – сказал Володя.
– Что он говорит? – спросил Тод-Жин.
– Сволочь! – повторил Устименко. – Фашист!
Дипломаты закивали головами, заулыбались. Знаменитый американский обозреватель-журналист пошутил. «Эта шутка уже летит по радиотелефону в мою газету», – пояснил он своим собеседникам и бросил в рот – щелчком – дольку апельсина. Рот у него был огромный, как у лягушки, – от уха до уха. И им всем троим было очень весело, но еще веселее им стало за коньяком.
– Надо иметь спокойствие! – сказал Тод-Жин, с состраданием глядя на Устименку. – Надо забирать себя в руки, так, да.
Наконец подошел официант, порекомендовал Володе и Тод-Жину «осетринку по-монастырски» или «бараньи отбивные». Устименко перелистывал меню, официант, сияя пробором, ждал – строгий Тод-Жин с его неподвижным лицом представлялся официанту важным и богатым восточным иностранцем.
– Бутылку пива и бефстроганов, – сказал Володя.
– Для меня каша и чай, – добавил Тод-Жин. – Так, да.
– Идите к черту, Тод-Жин, – рассердился Устименко. – У меня же уйма денег.
Тод-Жин повторил сухо:
– Каша и чай.
Официант вздернул брови, сделал скорбное лицо и ушел. Американский обозреватель налил коньяку в нарзан, пополоскал этой смесью рот и набил трубку черным табаком. К ним к троим подошел еще джентльмен – словно вылез не из соседнего вагона, а из собрания сочинений Чарлза Диккенса – лопоухий, подслеповатый, с утиным носом и ротиком куриной гузкой. Вот ему-то – этому клетчато-полосатому – и сказал журналист ту фразу, от которой Володя даже похолодел.
– Не надо! – попросил Тод-Жин и стиснул своей холодной рукой Володино запястье. – Это не помогает, так, да…
Но Володя не слышал Тод-Жина, вернее, слышал, но ему было не до благоразумия. И, поднявшись за своим столиком – высокий, гибкий, в старом черном свитере, – он гаркнул на весь вагон, сверля журналиста бешеными глазами, гаркнул на своем ужасающем, леденящем душу, самодеятельно изученном английском языке:
– Эй вы, обозреватель! Да, вы, именно вы, я вам говорю…
На плоском жирном лице журналиста мелькнуло недоумение, дипломаты мгновенно сделались корректно-надменными, диккенсовский джентльмен немного попятился.
– Вы пользуетесь гостеприимством моей страны! – крикнул Володя. – Страны, которой я имею высокую честь быть гражданином. И я не разрешаю вам так отвратительно, и так цинично, и так подло острить по поводу той великой битвы, которую ведет наш народ! Иначе я выброшу вас из этого вагона к чертовой матери…
Приблизительно так Володя представлял себе то, что он произнес. На самом деле он сказал фразу куда более бессмысленную, но тем не менее обозреватель понял Володю отлично, это было видно по тому, как на мгновение отвисла его челюсть и обнажились мелкие, рыбьи зубки в лягушачьем рту. Но тотчас же он нашелся – не такой он был малый, чтобы не отыскать выхода из любого положения.