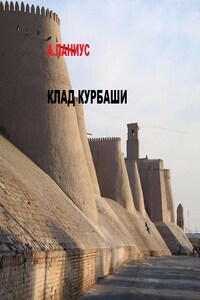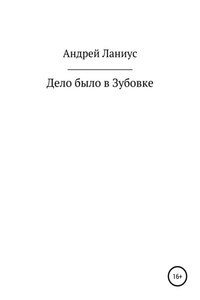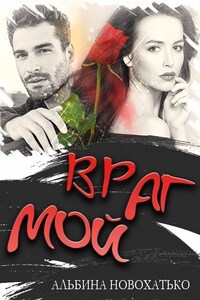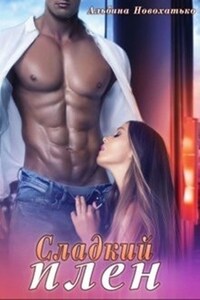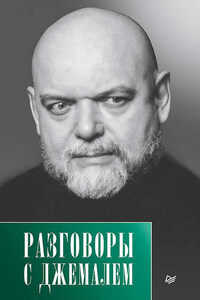Городок Т., веками дремавший у самого порога необъятной пустыни среди проплешин солончака и зарослей верблюжьей колючки, был так мал, что обитатели его противоположных окраин могли с легкостью видеть друг друга, взобравшись на плоские крыши своих саманных жилищ.
Но картина решительно изменилась, когда рядом развернулась великая стройка. Будто по мановению джинна, сюда, в эти края, подобно тучам саранчи, хлынули орды чужаков – русские, кавказцы, корейцы, крымские татары, немцы, турки-месхетинцы и прочие инородцы, всех не перечесть. В считанные недели город оказался в тройном кольце вагончиков-контор и сборных бараков-общежитий. На пологих холмах, повсюду, куда достигал взор, быстрее весенних маков поднялись скопища подъемных кранов и железных мачт. Полчища вертких, настырно снующих самосвалов стерли в мелкую пухлую пыль всю степь вокруг, и овец пришлось перегонять за пределы самых дальних пастбищ. Гул великой стройки не умолкал ни днем, ни ночью, ее мощный многоязыкий водоворот бесцеремонно втянул в себя неторопливое течение местной жизни. Теперь даже аксакалы не удивлялись тому, что важные новости не успевают облетать Т. на протяжении дня, а то и вовсе гаснут по дороге.
Вот почему ни друзья Джанджигита, ни друзья их друзей, ни кто-либо из земляков ничего не могут сообщить о завязке этой драматической истории, отголоски которой впоследствии заставляли содрогнуться – и не раз – даже самые черствые сердца.
Всё открылось как-то вдруг, с середины, вспоминают друзья Джанджигита.
Свои свободные вечера они проводили обычно всей компанией на берегу канала или в старой чайхане у трех карагачей, а то у кого-нибудь в гостях, и Джанджигит неотлучно находился с ними, в общем кругу, хотя и держался неприметно в силу своего кроткого, даже робкого нрава. С таким характером лучше бы родиться девушкой. Случалось, друзья подтрунивали над ним, но всегда – добродушно.
И вот однажды они спохватились, что уже третий день подряд никто из них не видит Джанджигита и не имеет о нем никаких известий.
Не испытывая, впрочем, никакой тревоги, друзья отправились к нему домой.
Еще издали они заметили у знакомого дувала его синий самосвал, а вот и сам Джанджигит вышел через низенькую калитку на пыльную улицу. При виде нежданных гостей он остановился, потупив взор, а на его нежных, с персиковым пушком щеках заиграл яркий румянец.
- Эй, Джанджигит! – окликнули его друзья. – Всё ли у тебя хорошо? Здоров ли ты? Как себя чувствует твоя уважаемая матушка? Не обижает ли кто твоих младших братишек и сестренок? Быть может, у тебя возникли неприятности в гараже? Или же опять начудили твои бестолковые дядья? Говори прямо, не стесняйся, ведь мы тебе не чужие.
Джанджигит поднял глаза, и друзья с изумлением обнаружили, что его румянец вызван не смущением, а какой-то совершенно несвойственной ему досадой.
И еще они разглядели только сейчас, что он аккуратно подстрижен и причесан, что на нем не привычная всем чумазая футболка, а выглаженная белая рубашка, что обут он не в стоптанные сандалии на босу ногу, а в начищенные до блеска выходные туфли, не успевшие еще запылиться.
Он порывисто прошагал мимо них к машине, обдав их чуждым ароматом – не того дешевого одеколона, которым здесь освежались после бритья, а каких-то терпких благовоний, забрался в кабину и уже оттуда крикнул – опять же с несвойственной ему гордыней:
- Незачем ходить за мной по пятам, подобно стаду баранов! Я вас не звал и в вашей помощи не нуждаюсь! – Тут он завел самосвал и резко газанул, накрыв компанию густым облаком глинистой желтой пыли.
Друзья, никак не ожидавшие от Джанджигита ни таких речей, ни такой выходки, на минуту онемели. Затем переглянулись и, выждав, пока уляжется пыль, направились в чайхану, чтобы без помех обсудить случившееся.