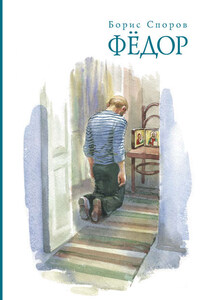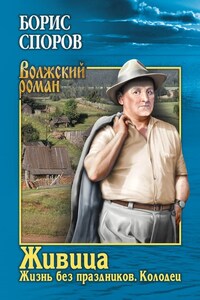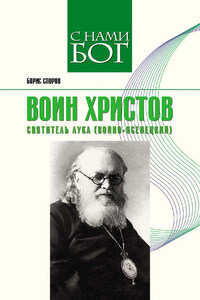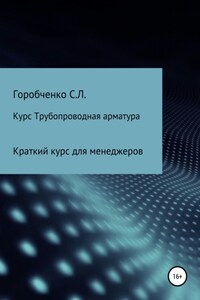Ф.Я. Гузовину
Где наша сезонная работа, где лето, осень где, да и зима уже осадку дает, а все-таки – зима: теснит друг к другу, к теплу жмет, к нашей заветной печурке, поближе к доброму березовому огоньку. Хорошо живем, тепло и сытно и Котьке, и Каштану, и мне – слава летнему труду!.. Но когда я готовлю обед и дело доходит до лука, то невольно повторяю— и это уже пугающая навязчивость: «Ах, Федор, Федор…»
Пока жив был, нередко и раздражал, и утомлял, а не стало – и так-то не хватает этого человека, даже не рядом, вообще не хватает: пусто. Порой ведь достаточно сознавать, сердцем знать, что некто где-то существует-странствует – и уже это помогает жить, одолевать невзгоды и даже одиночество. Не диво ли – человек за пятьсот, за тысячу верст от тебя, а ты испытываешь его постоянное присутствие рядом: и жить легче, потому что тот – за пятьсот, за тысячу верст! – продолжает земное странствие и тоже, наверно, с памятью о тебе.
За прошлую зиму Федор побывал у меня дважды. Первый раз гостевал неделю, как бы завернул по пути – ездил из К. в Астрахань (!) за сырой таранькой.
Есть в этом что-то непостижимое – и в личном, и в общественном бытии. Тогда меня очень поразила сцена-идиллия: возвратился из Москвы, вхожу в калитку: «Боже, что за оказия!» Мужик, – а сослепу тотчас Федора я и не узнал, – сидит на крылечке, а рядом с ним Каштан – и, сукин сын, даже не бежит ко мне навстречу! И это мой-то пес, преданный и верный, который и соседей не пускает на участок… Приехал Федор и еще спустя два месяца – тоска заела. Грибов сухих захватил для рынка, а для меня приволок полчемодана лука – трудно в ту зиму было с луком – вымок, вот он и приволок. Десять дней гостевал. Грибы продали, по редакциям с его рассказами шастали, а вечерами мы точно прощались…
Восемь месяцев нет Федора, а лук-то я до сих пор ем, и как только берусь за луковицу, так: ах, Федор, Федор… Нет Федора, простенького и непостижимо сложного, откровенного и загадочного, целостного и противоречивого человека. Я не тотчас понял, насколько же он сложен, этот Гурилев Федор-то Яковлевич. А ведь с кем только и не доводилось сходиться, даже с академиком однажды общался, но, увы, все по какой-то схеме распознавались; Федор ни в одну схему не укладывался – Федор сложнее.
Лет пятнадцать мы знали друг друга.
Нет более осязаемой радости, чем та, когда выпускаешь маленькую хрупенькую птичку из руки своей на волю. Зимой синицы чаще других залетают ко мне на веранду. Влетит и с перепуга хлещется в стены да в стекла. Идешь на выручку – мои Котька и Каштан не прощают вторжения в свои пределы.
Идешь помочь, а она, глупая, погибель видит – со всего крыла врезается в стекло и, как правило, оглушенная падает – и крылья на стороны. Внесешь в комнату, изо рта напоишь – пьет, вот и головкой в монашеском платочке запокручивала – отудобела. Каштан визжит от негодования, Котька, развалившись на полу, бьет хвостом, луковично-желтым глазом косит, но ни с места – ему-то известно, что за птиц, – не раз он за них по ушам получал. И вот на крыльце осторожно разжимаешь ладонь: только миг недоверия – и встрепенется живой комочек, взмоет вверх, в разреженный морозом воздух, в небо – волюшка! И обязательно уже на лету пискнет: пи-и-и! – и мне все кажется: так она благодарит. А может это крик восторга, торжества, победный клич? Бог весть. Но всякий раз я думаю: а понимает ли синица, что побывала в могущественной руке, и настолько могущественна эта рука, что и сравнить по-птичьи не с чем; запомнит ли она, что ее поили изо рта и что согрели дыханием, обласкали – и выпустили? Или же синица отнесет все на счет своей пронырливости и даже храбрости-воинственности, и будет хвастаться перед себе подобными, что вот-де пережила она такое, такое (!), однако хватило сил, воли и ловкости, чтобы вырваться из обреченности, уйти от судьбы… Боже мой, не так ли и человек подчас о себе думает! Не так ли и человек – потрясенный – оказывается во всесильной, невидимой или неосознаваемой деснице; и не так ли и его выпускает незримая воля из судьбы-обреченности в жизнь; и не так ли же гордится и человек своей ловкостью и пронырливостью, не сознавая или не желая признать, что он – лишь синица в мощной деснице, могущей и сжаться, и разжаться?..