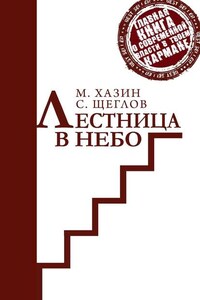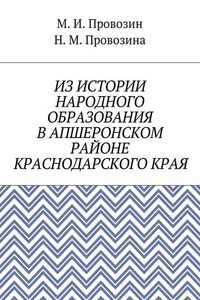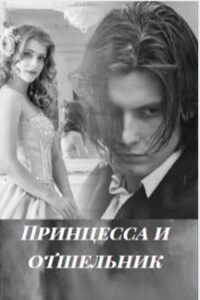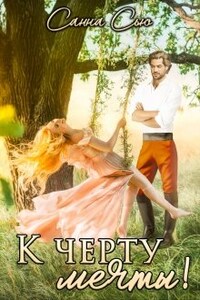Когда 14 апреля 1856 г. во флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Петр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:
Скончался «один из московских старожилов, известный во всех кружках столицы».
Затруднение редактора в подборе слов для определения покойного не сложно понять – Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен – к концу жизни едва имел чем жить, да и то скорее по доброте людей, его окружавших; даже литератором его назвать было невозможно – ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причем первая – размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно назвать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.
Чаадаева знала вся Москва – т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях: он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно – сводя до нескольких реплик, как то обычно и бывает, – основания которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили все дальше от исходного содержания.
Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, еще при жизни Чаадаева успевшего написать о нем в своем заграничном, обращенном к европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851), он вошел в длинный перечень борцов за свободу – между декабристами и самим Герценом:
«[…] письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. […] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой „лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы“. Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет»[2].
Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, что скрывает совсем иное содержание – скрывает в том числе и от самого автора, – то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М.И. Жихаревым, первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником сведений для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России – более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.