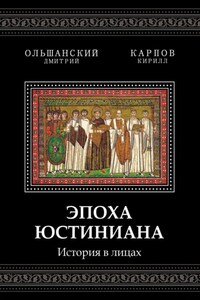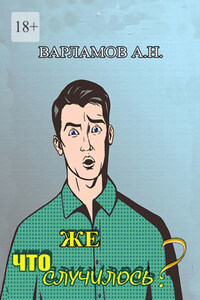Предисловие Альфонса Карра
Люди остерегаются морали: слишком много места отводится ей в книгах и проповедях; мораль возносит добродетель на такую недосягаемую высоту, что многие, не сумев туда подняться, легко утешаются, говоря о ней то же самое, что древний философ сказал о пороке: Non licet omnibus adire Corinthum[1]. И потому большинство удовлетворяется не более чем имитацией этой недоступной добродетели, а излишне суровая мораль чаще всего порождает лицемеров.
Если бы какой-нибудь человек вздумал продавать шлемы, доспехи и мечи размерами под стать героям Гомера, то его шлемы пришлись бы в пору разве что тыкве, латы напоминали бы собою небольшие комнаты, в которых вряд ли можно было бы дотянуться до потолка, а мечи было бы невозможно поднять. И он наверняка продал бы очень мало такого оружия, будь оно сработано хоть самим Вулканом по эскизам самой Минервы.
Булочник продаст вам хлеб за несколько медяков, имеющих хождение, но откажет, если вы посулите ему золотые медали с изображением императора Тита. Так что стоит поручать людям только ту работу, которая им по силам, и так же обстоит дело с настоящей моралью: она должна принимать в расчет наши увлечения и слабости – ей надлежит подрезать их, как древесные ветви, направлять в нужную сторону, но искоренить их возможно, лишь уничтожив само дерево.
Раз уж существуют ручьи, не стоит засыпать сточные канавы.
Мне, разумеется, известно, что к собственным страстям мы относимся снисходительно, но не распространяем это снисхождение на чужие; я всегда отзывался о гурманстве пренебрежительно, пока не прочел «Физиологию вкуса» Брийя-Саварена; раньше я видел в гурманстве лишь самое грубое, самое эгоистичное, самое глупое из пристрастий; чтение Брийя-Саварена заставило меня устыдиться, что я не гурман.
В самом деле, когда обнаруживаешь у завзятого гурмана столько остроумия и проницательности, столько философичности и веселости, то начинаешь сожалеть, что не наделен от природы необходимыми способностями, чтобы прочувствовать и оценить гастрономические удовольствия, сознаешь в себе некое увечье, отсутствие довольно важного чувства, оказываешься в одном ряду если не с глухими и слепыми, то по меньшей мере с глуховатыми и подслеповатыми и начинаешь смотреть на свое былое бахвальство, что ты, мол, не гурман, как на глупое тщеславие человека в золотых очках, который надменно меряет взглядом тех, кто очков не носит.
Разве у каждого из нас нет своих любимых блюд? Разве я не гурман в том, что касается красок и запахов? Разве не пьянит меня аромат жимолости, не восторгает зрелище великолепного заката и разве музыка не лишает меня всей холодности моего рассудка? Разве из-за этих упоительных впечатлений мне – подобно тем пьяницам, что находят улицы слишком узкими, – не случается порой находить слишком узкими и жизненные пути, тропинки возможного, дороги реальности?
Я прекрасно знаю, что страсть к гурманству порой перехлестывала через край, – но какая страсть избавлена от излишеств? Конечно, император, который откармливал мурен в своих рыбных садках изрубленной на куски плотью рабов, всегда будет считаться преступившим допустимые пределы застольных удовольствий, но это никоим образом не относится к былым римским гурманам – знатокам, которые по вкусу отличали рыбу, выловленную в устье Тибра, от той, что была поймана между двумя мостами, и первую не ели. Те, что отвергали печень гуся, откормленного сушеными фигами, и признавали ее, только если фиги для откорма были свежими, не несли в себе ничего опасного либо отталкивающего; их изощренный вкус похож на ухо Абенека