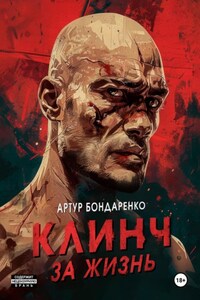Nihil habentes, omnia possidentes[1]
Если мы будем рассматривать историю не как перечень фактов и событий, описание битв, переворотов и перемен династий, а постараемся проследить эволюцию идей и чувств народов, понять настроение людей той или другой эпохи, то увидим, что в конце XII и в начале XIII века как будто новая свежая струя пронеслась над Европой, раздробленной и измученной кровавыми раздорами и распрями. В обыкновенные времена каждый народ живет своими отдельными интересами, своими радостями и печалями, но когда наступает кризис, – солидарность человеческого рода выступает особенно ярко и с такой силой, которую трудно было бы подозревать. Так было в 1789 году, так было и в XIII веке, когда Франциск Ассизский начал свою проповедь возрождения христианства.
Никогда, ни прежде, ни в последующие эпохи, границы не имели так мало значения и не было такого смешения национальностей и сближения народов, как в эту знаменательную эпоху.
“Нищенствующие ордена, – говорит биограф Франциска Ассизского, Поль Сабатье, – были при своем возникновении настоящими международными учреждениями. Когда в 1216 году св. Доминик собрал в Нотр-Дам-де-Пруилль своих братьев, их оказалось шестнадцать, и в том числе были: кастильцы, наваррцы, нормандцы, французы, лангедокцы и даже англичане и немцы. Еретики странствовали по всей Европе и нигде их не останавливала разность языка. Арно де Брешиа, например, знаменитый римский трибун, появляется во Франции, в Швейцарии и даже в Германии”.
Великое движение мысли в XIII веке было прежде всего религиозным движением, но носило светский характер. Оно вышло из недр народа и, несмотря на разные колебания и уклонения, все-таки стремилось к одной цели – отнятию святыни из рук духовенства. Тринадцатый век можно назвать не только веком святых, но и веком еретиков. Никогда еще церковь не была более могущественной, но никогда она и не подвергалась большей опасности. Быть может, если бы попытка религиозной революции, произведенная Франциском Ассизским, увенчалась успехом, она привела бы к уничтожению касты духовенства и к провозглашению прав индивидуальной совести. Но попытка эта потерпела фиаско, и позднее реформация произвела перемену лишь в том отношении, что власть священника заменилась властью писаний. “Но это была лишь перемена династий”, – замечает Поль Сабатье.
В то время, когда Франциск Ассизский начал свою проповедь, римская церковь давно уже служила предметом ужаса для всего христианского мира. Запятнавшая себя убийствами и корыстолюбием, то униженная, то жестокая в минуты своего торжества, западная церковь заслонила собою Бога от лица людей. Она прервала общение человека с Богом и заменила искреннюю веру такими добрыми делами, которые, по понятиям церкви, означали приношения верующих в казну духовенства. Церковь старалась возбуждать в верующих сознание полного бессилия, страх гибели без заступничества священника, служителя церкви, являющегося во всех случаях посредником между верующими и Богом.
Вынужденная часто защищать свое существование, церковь сделала своим кумиром власть и богатство. Она то прибегала к грубой силе, то обращалась к религиозному энтузиазму народов, то пускала в ход подкуп. В этом водовороте земных страстей погибло все, что составляло некогда основу христианства; Евангелие было забыто, и его заменили узкие фарисейские теории.
“Священник в XIII веке, – говорит Поль Сабатье, – был антитезой святого и почти всегда его врагом. Отделенный от всего остального человечества священным миропомазанием, считающий себя представителем Всемогущего Бога, – священник сам становился для народа чем-то вроде божества, облеченного таинственной властью, могущего вредить или приносить пользу, – человеком, к которому надо приближаться с трепетом благоговения. Святой же, наоборот, ничем не выдавал своей миссии, но жизнь его и слова проникали в душу и покоряли все сердца. Он не нес обязанностей в церкви, но у него внезапно являлась потребность возвысить в ней свой голос. Дитя народа, он понимал все его материальные и нравственные нужды и слышал голос его сердца”.