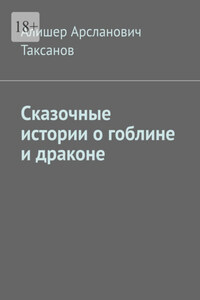Гламурёныши. Рассказы
Давно это было, может, даже и вовсе при Медведеве, этого точно не помню, но помню, что оверсайзов тогда ещё не носили, а носили всякое в облипон, да чёлки лопатами, да джинсы в стразах, из которых непременно задница должна была вываливаться, так что если уж это правда, то правда и остальное, что тут написано, хотите верьте, а хотите, думайте, что автор рофлит, или таблетки забыл принять, или как вы там выражаетесь. Книга содержит нецензурную брань.
| Жанр: | Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | Неизвестен |
Читать онлайн Гламурёныши. Рассказы
Книга заблокирована.
Вам будет интересно