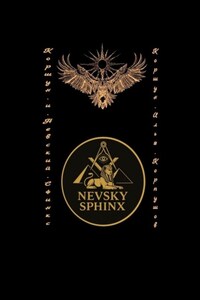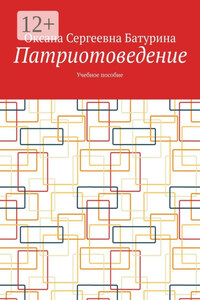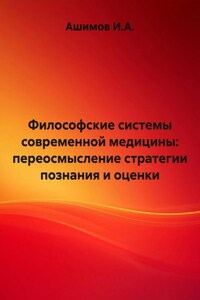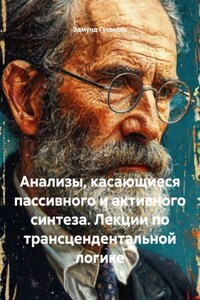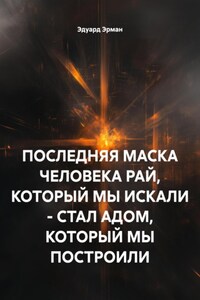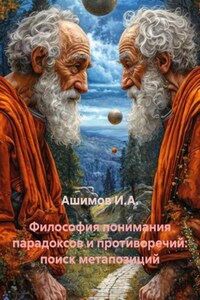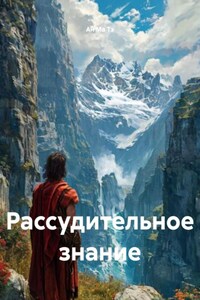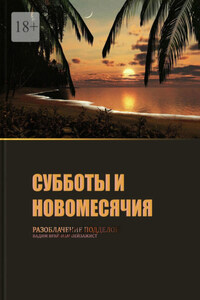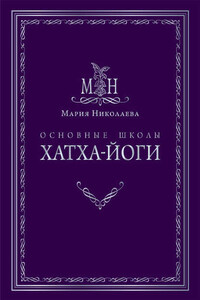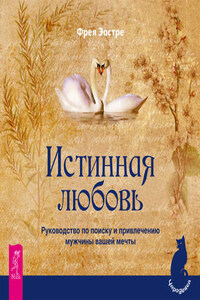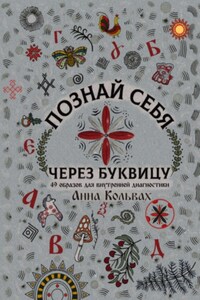Вступление
Глупость – последняя проблема
философии
Философия начала с удивления. Потом – с вопроса о Боге. Потом – с сознания, языка, бытия, смысла, смерти.
Но всё это было только прелюдией. Потому что теперь осталась лишь одна проблема. Самая простая. Самая страшная. Самая близкая.
Глупость.
Если Бог мёртв, если смысл разрушен, если сознание неустойчиво – остаётся только она.
Последняя преграда. Последняя тьма. Последнее «я не хочу думать». Единственный оставшийся враг мышления.
Глупость – это не отсутствие знаний. Это не дефицит интеллекта. Это не уровень IQ. Глупость – это отказ задать вопрос. Зло – это не воля к разрушению. Это сопротивление мышлению.
Глупость – это не невинность. Это выбор. Это соглашение с миром на условиях бессмыслицы. Это капитуляция перед удобством.
Ты не анализируешь – ты веришь.
Ты не понимаешь – ты чувствуешь.
Ты не решаешь – ты повторяешь.
А потом ты убиваешь. И говоришь, что был прав. Что «так надо». Что «я не мог иначе».
Глупость – это не милый недостаток.
Это не наивность.
Это – механизм.
Это – структура.
Это – фундамент каждого геноцида, каждой диктатуры, каждой системы, где человек перестаёт быть человеком.
Ты думаешь, зло приходит с криками и черепами? Нет.
Оно приходит с бумажками, улыбками, цитатами и спокойной уверенностью, что «мы хорошие».
Зло – не шумное. Оно вежливое. Оно структурированное. Оно уместное. Оно – глупое.
Всё зло – от глупости.
Это не метафора. Это не преувеличение. Это диагноз.
В этой книге мы начнём отсюда: с глупости как последнего врага. С глупости как системного отказа быть собой. С глупости как режима человечества. А потом мы разорвём её на части.
Мы вскроем её сердце, не снаружи – изнутри. Не как учёные. А как те, кто выжил.
Глупость – мать всех богов.
А значит, последняя богиня, которую надо низвергнуть.
Часть I.
От веры к глупости
Глава 1.
Вера как врождённая структура выживания
Вера – это не выбор
Мы привыкли говорить о вере, как будто это выбор. Но вера – не выбор. Это дыхание. Мы не решаем дышать – мы просто не можем иначе.
То, что позже станет убеждением, сначала было криком. Или взглядом. Или прикосновением. Не вопросом, а телесной жаждой устойчивости.
Человек рождается незавершённым. Мы слишком долго формируемся вне утробы. Слишком долго зависим. Мы зависим от другого сознания – от заботы, от ритма, от повторения. От того, кто удержит нас в этом мире, пока мы ещё не умеем различать, понимать, называть.
И вот в этом месте начинается вера. Не как религия. Не как идея. А как доязыковой способ быть связанным с реальностью.
Ребёнок верит не в Бога. Он верит в то, что кто-то придёт, если больно. Что тепло вернётся, если стало холодно. Что рука появится, если страшно.
Это не знание. Не опыт. Это онтологическое доверие. Фундаментальная установка: я не исчезну, потому что я не один.
Мы называем это привязанностью. Психологи – базовым доверием. Философы – допонятийной онтологией. Но по сути это вера. Самая древняя, самая телесная, самая необходимая.
И она не уходит, когда мы вырастаем. Она лишь переодевается в слова.
Иногда – в молитву. Иногда – в политическое убеждение. Иногда – в улыбку, которую мы прячем в одиночестве.
Мы часто думаем, что мысль – это антипод веры. Что логика приходит, чтобы всё развенчать. Что мышление освобождает нас от наивных доверий. Но истина сложнее: мысль не разрушает веру – она из неё вырастает.
Сначала – эмоция. Тёплая, телесная, предсловесная. Она создаёт ритм: «мама – приходит», «одеяло – греет», «голос – успокаивает». Потом – речь. Слово как жест, как танец, как ритуал повторения. Слово, которое не объясняет, а удерживает.