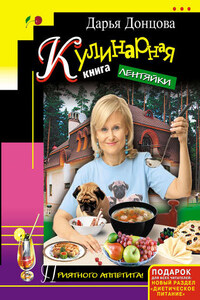Весна с большими разливами и густой травой подходила к концу. И строгая зима, и сама весна с тихой, ясной погодой говорили, что урожай будет хорош. Повсюду кончались весенние работы. Народ отпахался, отсеялся, и наступило сравнительно беззаботное время отдыха от полевых забот. Природа нежилась под лучами теплого солнца и готовилась к встрече лета. Особенно хорошо становилось на душе под закат, когда поля так и отливали молодой, сочной, яркой зеленью посевов.
Но эта полная важных мирских забот жизнь была там, снаружи монастырских стен. А здесь, в маленькой келье, куда едва пробивалась теплое весеннее солнце, было тихо, полутемно и спокойно.
Низкая дверь в келью отворилась, и в нее вошел, нагнувшись чтобы не задеть о верхний край дверного проема, монах в черной длинной мантии с наперстным золотым крестом поверх ее. Он перекрестился на висящие в углу кельи иконы и сел в видавшее виды кресло у стены. Некоторое время он сидел, уронив на колени руки. Высокий лоб его перерезывался чёрным клобуком, из-под которого по обе стороны падали длинные пряди волнистых, густых, но уже изрядно поседевших волос. Его серые, большие глаза глядели спокойно, только в глубине их лежала едва уловимая затаённая печаль.
Служба закончилась совсем недавно, и пришло время, когда надо было приступить к приему посетителей монастыря, со всех краев стекавшихся к нему, игумену монастыря Иллариону, дабы услышать из его уст слова утешения и правды…
Монах этот был никто иной, как граф Николай Петрович Закревский. Немало времени прошло с тех пор, когда он впервые попал под своды этого монастыря. Трудный путь пришлось ему пройти от простого трудника и послушника до знаменитого игумена и духовника. Сменилась не только прежняя жизнь его, но и имя его нынче стало Илларион, сменилось платье с мирского на монашеское, отросла и поседела борода… сам же он стал известен своей мудрой участливостью далеко за пределами монастырских стен, со всех сторон потянулись к нему люди…
Спустя некоторое время снаружи кельи раздался голос:
– Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас.
– Аминь, – сказал игумен.
В келью вошел молодой монах Савватий.
– Ваше Высокопреосвященство, – обратился он к игумену, – люди пожаловали, дабы встретиться с вами.
– Хорошо, немного передохну от службы и приступлю, – отозвался тот.
– Ваше Высокопреосвященство, позвольте спросить?
– Спрашивай.
– Почему вы позволяете мирским новостям проникать в монастырь?
– Мне кажется, что это полезно для того, что бы у братьев не возникало желания туда возвращаться. Возьми, к примеру, меня. Я тоже жил в миру и много себе позволял в нем. Но это всё прошло, да и время на то такую плиту дней да ночей навалило, что и памятью не воскресишь… Перетерпел, покорился путям Божиим, честно жизнь провел и беспостыдно готов в любой час предстать пред очами Его. И великий грех в том вижу, когда монах к кому-то или чему-то земному привязывается. Один Бог – наше прибежище, одна святая церковь – наша любовь. Вот так мы должны жить.
– Истинные слова, Ваше Высокопреподобие. Скажу вам честно, что с вашим здесь главенствованием много к лучшему пошло. Можно только возрадоваться тому, что в монастырь наш с возглавлением вашим аки корабль поплыл чинно и непоколебимо в бурном мирском море.
– Скажу тебе так, Савватий, рукоположение не дает человеку ни ума, ни учености, ни опытности, ни духовного возраста. Оно дает ему страшное право стоять перед престолом Божиим там, где только Христос имеет право стоять. А это тяжкая ноша, тяжкий крест. Посему я в каком-то смысле икона, но при этом не должен воображать, будто я святыня. Признаюсь, я порой переживаю вновь прошлое и спрашиваю себя: жалею ли о нем, и как бы я хотел поступить, если б ко мне опять возвратилась моя молодость. И я перед отворенными уже для меня дверями другой жизни говорю твердо и решительно: я желал бы поступить так же.