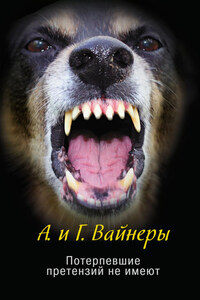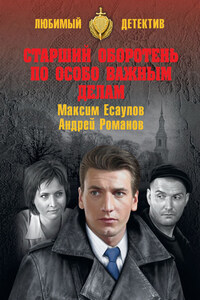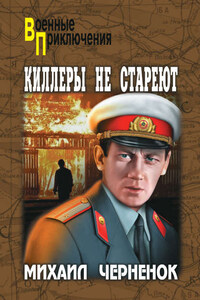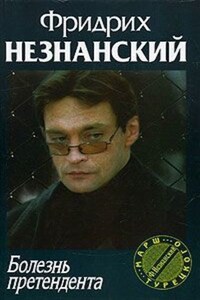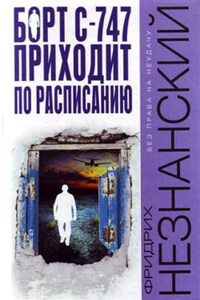Э-ах, зимой и летом!
Зимой и летом: тара-ра-ра!
Опять – двадцать пять!
У этой песни улюлюкающий ритм, бодрая залихватскость. Неравномерными, резкими рывками она вышвыривает меня из постели по утрам, каждая нотка ее вырублена в подкорке, словно гранитная партитура моих невыполнимых обязательств. Я эту песню ненавижу.
Неразумное, конечно, чувство. Это ненависть колодника к своей цепи. А ведь если бы однажды утром я вдруг не услышала этого развеселого напева – все полетело бы кувырком. Я медленно перехожу к яви, у меня долгое просоночное состояние, и без жесткого графика радиоанекдотов я обязательно потеряла бы темп. Пока актриса заливается-хохочет над анекдотом, прочитанным ей актером, я включаю электрическую плиту – она так медленно разогревается, – ставлю кофейник и иду умываться. Корзина для белья уже полна, завтра после дежурства надо затеять стирку. С утра почему-то и свет в ванной тусклый. Я смотрю на себя в зеркало, у меня еще есть время, я не выбилась из графика: по радио актриса интригующим голосом задает партнеру вопросы: «Знаете ли вы, что?..»
Ну, Рита, довольна? Вот эти две морщинки у глаз старые, а вертикальная складочка на щеке все глубже, глубже. Альперович утверждает, что я часто поджимаю губы. Я, наверное, действительно становлюсь злой старой каргой. Через год будет тридцать, для женщины это возраст серьезный.
Вода холодная, сердитая, от нее розовеет бледное со сна лицо, отлегает от сердца беспричинная досада.
– Мама! Коте-о-онок!.. – проснулся Сережка. Он сидит в кроватке и рассматривает свои ноги. – Слушай, Котенок, мне приснился удивительный сон. Ко мне приходила лиса с зеленым хвостиком. Рыжая, а хвостик зеленый. Ее, наверное, дразнят…
Счастливый человек Сережка. Ему снятся цветные сны.
– А о чем вы с лисой толковали?
– Ни о чем. Я ей сказал, чтобы она жила у нас дома, я ей сказал, что ты, Котенок, добрая, что ты разрешишь, но лиса ничего не поняла…
Шипит вода в кофейнике. И юморист на радио с трудом удерживается от смеха, читая собственный рассказ. Времени в обрез.
– Одеваешься, сынок?
– Ага. Котенок, мы с Сашкой Трескиным решили, что я буду дракон…
– Драконом?
– Да, мне нравится быть драконом! Драконы ведь бывают и добрые?
– Безусловно. Я знакома с массой добрых драконов. Вставай, дракончик, опоздаем в сад…
На лопатке у дракона большой синяк.
– Что это у тебя, дракон?
– Укусок. Саша Трескин меня цапнул.
– Сильно ревел?
– Нет, не очень. Я его тоже куснул.
– Стыдно ведь, а?
Дракон задумчиво смотрит на меня из-под шапки светлых, почти белых волос, неспешно говорит:
– Я уже начинаю переставать кусаться.
А на радио пока что иссякает иностранный юмор и вот-вот грянет снова «Зимой и летом» – они повторяют песню в конце передачи, будто боятся, что я с одного раза не запомню все слова.
Наливаю себе самую большую чашку кофе, делаю первый, самый сладкий, самый долгожданный глоток, а кофе густой, крепкий, непроглядно-коричневый, горячий, со светлой плотной пенкой, в нем все ароматы тропиков, и в легком облачке пара над чашкой – прозрачный ветер дальних странствий, в его горько-сладком волшебном вкусе – успокоение, радость и сила. И закуриваю сигарету.
Это лучшие десять минут предстоящих суток.
Я сижу на кухне у окна, пью кофе, покуриваю неспешно сигарету, смотрю в залитое дождем окно, и сумерки становятся все жиже, и четче костлявая чернота уже облетевшего тополя; слушаю, как уютно сопит и бормочет одевающийся дракон, и думаю о том, что сегодня предстоит долгий и трудный день; о том, что надо вынуть из морозильника мясо – вечером, после садика, мать нажарит котлет дракону и себе; и о том, что надо выкроить сегодня время написать замечания к автореферату Альперовича. Хорошо бы сдать в химчистку мою куртку и Сережкину шубу, хорошо бы позвонить в редакцию «Морфологии», узнать, почему так долго нет корректуры; надо созвониться с Майей – достать для матери лекарство «сустак-мите», и оплатить бы счет за квартиру, и надо бы сдать в профком отчет о подписке на газеты, и хорошо бы…