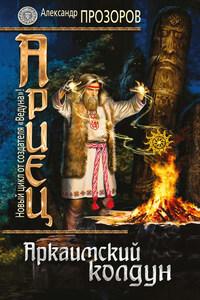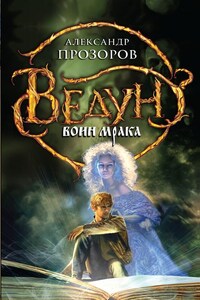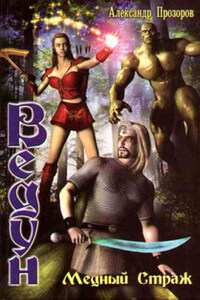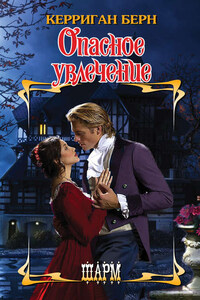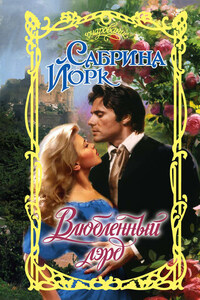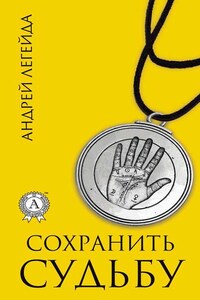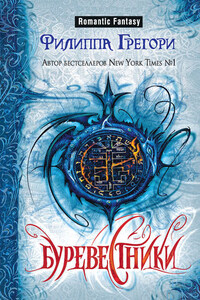Часть первая. Царская воля
2 сентября 1616 года
Москва, Кремль
Полуденное солнце с легкостью пробивало три забранных слюдою окна Малой Думной палаты и ударяло в золотистую роспись стены, после чего растекалось по всей горнице, освещая чинно восседающих на лавках вдоль стен, под ликами святых старцев, знатных бояр.
Высокие бобровые шапки, собольи воротники, распахнутые парчовые шубы, песцовая опушка рукавов и подолов, обитые серебром и золотом высокие посохи, многие из которых венчались резным навершием из слоновой кости либо еще более драгоценным самоцветным. Пояса с накладками из янтаря и яхонтов, перстни с каменьями, золотые цепи и ожерелья на шеях.
Богатством, достоинством, золотом и самоцветами лучились наряды всех находящихся здесь людей, кроме двоих. Первым был одетый в длинный коричневый кафтан писарь, таящийся за пюпитром возле окна и старательно строчащий что-то на листочках рыхлой желтой бумаги. Вторым – пожилая круглолицая монахиня, облаченная в темно-синюю рясу и светло-серый апостольник[1], опирающаяся на высокий тонкий посох из красной вишни с широким крестообразным навершием из серебра.
Именно инокиня, стоя слева и чуть позади царского трона, сурово отчитывала упавшего пред государем на колени худощавого лысого боярина с тощей седой бородкой, тискающего в руках засаленную рысью шапку:
– Тебя, Агофен Листратыч, бояре чухломские губным старостой избрали, с тебя за них всех и спрос! Что за бесовство поганое они вдруг затеяли, на торгу подать не платить?! Мытаря царского погнали, да еще и поход разбойный к татарам своевольно учинили?! Без Разрядного приказа исполчения, без указа и доизволения? Да еще на смотр половина людей ратных не вышла! Это что же вы себе за дурь позорную позволяете? Али шляхта дикая вас покусала, что подобно ляхам поганым вести себя затеяли?! Али вы мухоморов каких в лесах своих дружно откушали?! Каковую сказку в оправдание затеи сей вымолвить посмеешь? Говори!
– Дык, государь… – жалобно взмолился старик, умоляюще глядя в глаза восседающего на позолоченном кресле бледного худосочного юношу, с легким пушком на подбородке и верхней губе вместо усов и бороды. – На басурман, знамо, бояре отлучались-то! Рази грех сие, нехристей всяких, сарацин нерусских пощипать маненько? И дуван взятый по обычаю атаман делит, да круг войсковой. Зачем нам мытарь?
– Да ты никак вовсе ума лишился, боярин Агофен?! – громко возмутилась монашка. – Где это ты обычаев таких набрался?! Откель вовсе повадки подобные в державе православной взяться могут?! У нас на Руси токмо закон все поступки людские определяет! Указы царские да приговор собора Земского! И без воли царской ни един боярин саблю из ножен вынимать права не имеет! Ни на басурман, ни на схизматиков, ни на православных людей тем паче! Коли от приказа Разрядного повеления не пришло, живи тихо, землю паши да жену люби! А в исполчение назначили, в тот же час в седло подняться должен, да в снаряжении полном на смотр явиться, в броне, с саблей и рогатиной, да с конем заводным. И от каждых пятидесяти десятин пашни своей по добротно снаряженному воину выставить!
– Ну так круг, он решит…
– Опять круг, Агофен?! – совсем уже взъярилась монашка. – Нет никаких кругов в царствии русском, боярин! На Руси есть токмо приказ Разрядный да воля царская! А коли не нравятся вам законы праведные, то вот вам бог, а вот порог: на Дон катитесь, к вольнице казачьей! Нам такие слуги не надобны!
Монашка снова стукнула посохом об пол и твердо объявила:
– Слушай волю царскую, Агофен Листратыч! Сим государь наш Михаил Федорович объявляет, что любой сын боярский, на смотр по велению Разрядного приказа не явившийся, либо по разумению своему в поход ушедший, из росписей в тот же час исключен будет, а поместье его в казну отписано! О сем избирателям своим и поведай. Все, ступай! Более тебя государь не задерживает!