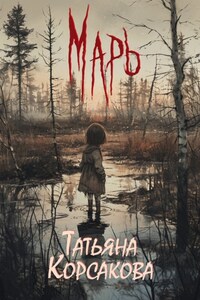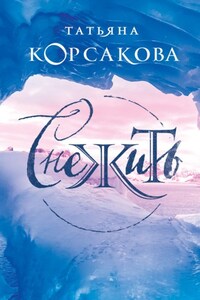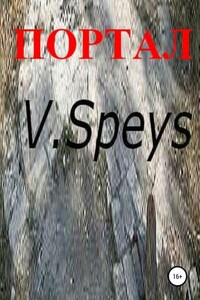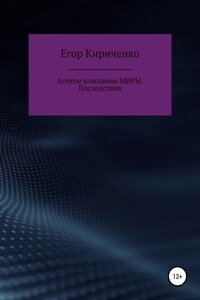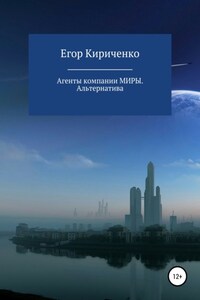Ольга пыталась не смотреть. Не смотреть. Не слышать. Не быть.
Ей не дали. Никому из них не дали. Даже маленьким детям…
Их выгнали из домов на рассвете. Поднимали с постелей пинками, тумаками и прикладами. Всех, от мала до велика. Поднимали, чтобы, как скот, загнать на пятачок перед сельсоветом. Когда-то накануне Первомая здесь устанавливали деревянную трибуну, с которой председатель Антон Петрович поздравлял сельчан, вручал грамоты за ударный труд. Сейчас тоже установили. Только не трибуну, а виселицу. Три столба на высоком, наспех сколоченном помосте. Три раскачиваемые мартовским ветром петли. Три фигуры, ярко освещенные фарами грузовиков. Хотелось думать, что это не взаправду, что это такой спектакль, страшное действо на потребу толпы. Хлеба и зрелищ!
Вот только толпа не хотела! Не хотела, боялась и ненавидела. А еще скорбела по этим троим, которые еще живы, но уже покойники.
Ольга пыталась не смотреть. Она закрыла глаза сама и прижала к груди Танюшку, малодушно надеясь, что им позволят не видеть.
Не позволили. Ударили прикладом в бок ее, оттолкнули онемевшую от ужаса Танюшку – подальше от нее, поближе к этому импровизированному эшафоту.
Ольга не почувствовала боли. Наверное, из-за страха за внучку. В какой-то момент подумала, что сейчас – вот прямо сейчас! – фигур на эшафоте станет на одну больше. Больше на одну испуганную шестнадцатилетнюю девочку.
Но нет… Эти ироды были заняты другим. Ироды готовились к представлению, готовили сцену и зрителей. Чтобы смотрели. Чтобы на веки вечные запомнили и впредь даже в мыслях своих не смели сопротивляться новой власти.
Те, что стояли на сцене, посмели. Ольга знала каждого. Двоих из них она учила в школе. Старший когда-то ухаживал за Лидией, ее дочкой. У них не срослось. Помнится, тогда эти юношеские страдания казались такими серьезными и такими значимыми. И Лиде, и ей самой. Первая любовь всегда оставляет раны на юных сердцах. Но все утряслось, юность прошла, уступая место взрослым заботам и здравомыслию. Много всякого случилось за минувшие годы, но этот… теперь уже не юноша, а мужчина, никогда не переставал любить ее единственную дочь. Даже после того, как женился на другой, а потом овдовел. Даже после того, как Лидии не стало. И сейчас Ольге казалось, что он смотрит на Танюшку. Выискивает ее глазами в толпе. Танюшка похожа на мать, она почти точная ее копия, и он прощается с тем, что так и не случилось, но оставило раны на сердце.
А Танюшка смотрела на мальчика. Нет, после того, что он совершил, уже не мальчика, а мужчину. Как жаль, что это ненадолго. Как несправедливо и как чудовищно! Они были одноклассниками. Никакой влюбленности – только дружба-соперничество. Все то, что присуще шестнадцатилетним. Было присуще. Нельзя забывать, что прежний мир рухнул, что теперь его наполняют вот эти страшные, ко всему равнодушные люди со свастикой на рукавах. И другие страшные. Нет, пожалуй, еще страшнее, потому что не чужеземцы, а свои. Были своими. До войны…
На помост взошел один из таких, из бывших «своих». Мишаня-полицай. Тоже Ольгин ученик. Тут половина села была ее учениками. А в полицаи выбился только этот. И откуда что взялось? Ведь тихий был, прилежный. Ольга попыталась вспомнить, обижали ли его другие дети. Учитель в ней все еще искал оправдания чужим злодеяниям, искал причину этой страшной, нечеловеческой какой-то подлости. Искал, но так и не находил. А глаза, уже свыкшиеся с рассветным сумраком, всматривались в третью фигуру, сухонькую, согбенную, со скрещенными на груди натруженными руками. Мать мужчины и бабушка мальчика, первая и последняя женщина в роду, который вот-вот прервется…
– Смотрите все! – Рявкнул Мишаня-полицай. Он взмахнул руками, словно пытался обнять всех тех, кого силой согнали на площадь. – Смотрите и запоминайте!