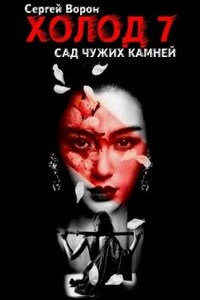Когда устал от звездной
пыли,
Когда судьба как ветку
гнёт,
Когда вопросов больше с
«или»,
Когда внутри совсем
нарвёт.
Когда ты волком быть не
можешь,
И человеком не
сумел,
Вся жизнь из красных
многоточий,
И всё, сломался твой
предел.
Когда в аду захочешь
рая,
И покаянье
принесёшь,
За упокой свечой
сгорая,
Слезой прольёшься, словно
дождь.
И, помолясь не на
иконы,
А в городскую
глубину,
Опять по-волчьему
завоешь
Средь стен холодных на
луну.
И, может быть, тогда
вернешься,
Туда, где дома даже
нет,
И без тревоги
улыбнёшься,
Встречая первый свой
рассвет...
* * *
Он смотрел за осенним дождем, который размазывал на давно немытом
стекле свои грязные узоры. Еще одно лето закончилось осенью,
плаксивой и нудной, и оттого как-то очень безысходной. Откидало
вовсю свои листья, и снова в душу тупым лезвием обиды вонзилось: ТЫ
БОЛЬШЕ НИКТО! Нет, здесь не было заборов, только так, четыре
покосившиеся доски с натянутой сверху ржавой колючей проволокой. Но
от этого становилось еще страшнее, от той неизвестности, которая
осенним туманом стелилась там, за забором. Он закурил сигарету, и в
это время к нему подошла грузная женщина в белом халате. Белый!
Громко сказано!
- Хватит курить, больной, режим!
Сейчас пойдешь на пищеблок, возьмешь тару и отнесешь на хозблок. И
давай быстрее! - она с силой шлепнула его по стриженому затылку, -
малохольный! Поршнями двигай!
Он нехотя зашел в
палату, сдернул с вешалки застиранный ватник и голыми ногами в
смятых тапках зашлепал на кухню, где его ждал полный бак отбросов,
таких же отбросов, которые, якобы, лечились здесь. Скрипнув
мышцами, он потащил бак на улицу. Ноги вначале намокли, потом
замерзли, а он тащил бак, ничего не замечая вокруг. Сейчас он
высыплет это свиньям, дебиловатый рабочий угостит его сигареткой, в
сотый раз назовет убогим и даст пинка под зад кирзовым сапогом в
навозе, от которого он побежит в больничный корпус, не замечая луж,
не чувствуя запаха помоев, и, в сотый раз встанет перед окном,
чтобы смотреть куда-то сквозь этот ёбанный дождь... Возле
покосившегося забора он поскользнулся и со всему размаха грудью
упал в эти пахнущие помои. «Твою мать!!!». Его как будто отпустило,
выбило из этой спячки, напичканной колесами, ежедневными осмотрами,
ЭСТом, и многим другим, тем, что призвано его, якобы, лечить, а на
самом деле делать только еще тупее... Он выплеснул содержимое бака
в осеннюю грязь, подтащил его к забору, накинул на него мокрый
ватник и на непослушных мышцах вначале подтянулся, и только потом
обессилено свалился вниз... Но уже с той стороны забора.
Он огляделся по
сторонам и побежал к городу, который начинал зажигать свои вечерние
огни. Ночь он провел в каком-то подъезде. Пока без планов на
будущее и сигарет. Как только первые лучи солнца начали прорезывать
осеннюю мглу, он, замерзший, вылез на улицу. Где-то недалеко он
услышал стук, который вначале ужасно напугал, а потом заставил
бежать быстрее. Где-то далеко в сознании всплыло - там
железнодорожная станция! Он петлял по дворам, прятался от редких
прохожих, пока лицом к лицу не столкнулся с грузным мужчиной в
кепке и дешевой кожаной куртке.
- Чё, в дурдоме каникулы? - дыша
перегаром ему в лицо, усмехнулся человек.
- Закурить есть?
- А тебе зачем? - продолжал смеяться
тот и протянул ему пачку дешевых сигарет без фильтра.
- А спички? - он дрожащей рукой
вытащил сигарету.
- Чё, ни говна, ни ложки? - и
протянул замызганный коробок.
Затянувшись
горьким дымом, он повернулся и собрался, было идти дальше, но
неожиданно остановился.
- Чё, еще и налить? - съехидничал
мужичок.
Дальше он сказать
ничего не успел. Тренированные мышцы вспомнили, напряглись и,
словно выстреливший кулак уронил прохожего на тротуар. Он схватил
его и потащил куда-то к сараям. Быстро стянув с него одежду, он
надел мешковатые брюки, несуразные ботинки и совсем чмошную кепку,
напоследок ударив валяющегося без сознания человека с ноги: