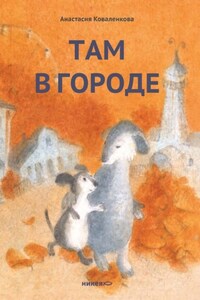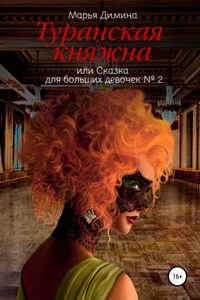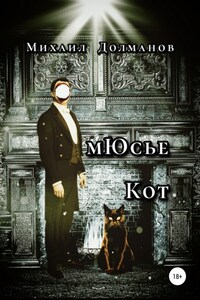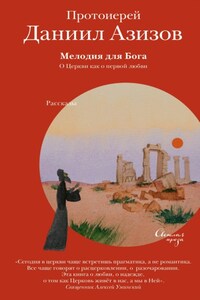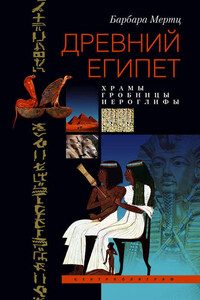Повесть эта началась 47 лет назад. Тогда, когда мне было шесть лет, в те дни, когда я, маленькая, ощутила «круглый уют» моей родины, в то время, когда я почувствовала себя под защитой хороших людей. Это было в деревне Жевнево, в трёх километрах от подмосковной станции Снегири. И уже тогда мне было горько уезжать в город.
Много деревень я повидала с тех пор. У меня появился и свой дом под Переславлем-Залесским. И здесь, в Яропольцах, меня вновь окружают хорошие люди.
У них, у тех, у этих, я училась сажать огород, косить, топить печь, солить огурцы.
У них я училась быть сильной, смиренной, громко петь, тихо трудиться, отстаивать себя и прощать всех.
Когда я выросла в автора, люди стали собираться в образы. И начали говорить во мне. Это не документальные герои, это – портреты, слагаемые из многих лиц и судеб. Это портреты моего народа.
А вот как писалось повествование: оно нанизывалось, как бусы на нить, с крупными камнями, камешками и замком, соединяющим всё воедино.
Сперва, будто крупные камни, нанизались на нитку текста портреты-судьбы. И они стали главами.
Потом появились «интерлюдии» – маленькие камешки-архетипы, то, среди чего живут мои люди.
Ведь Песня, Вода, Дом, Снега, Костры, Листва, Птицы, Простор, Яблоки, Простота, Берёза, Дороги – это и есть наша страна.
Эти «интерлюдии» легли между «людьми», оказались на той же нитке, создав пространство. Оставалось найти замок для бус моей повести.
А таким замком стал эпилог, последняя глава, где я, шестилетняя, узнаю, что живу в «круглом уюте», где понимаю, что не только моя деревня, а вся страна вокруг населена родными людьми. Которым я своя, которые и приласкают меня, и отругают запросто, как свою. Которые защитят меня от беды и которых я готова защищать, как смогу. Словом и делом. Потому что это мой народ. Это хорошие люди.
Трудно человеку начинаться весной. А приходится. Сызнова, с самого начала приходится.
Потому как за зиму всё поистратилось.
Да и всему живому трудно. Вон ветка: каково ей, холодами обветренной, шершавой, – выпустить почку и родить лист?
А птицы? Те, что переголодали, а всё же дожили до тепла? Где только они силы взяли?
Идёшь по лесу, среди всех них, среди веток, птиц, и чувствуешь себя самым негодным. Они уже смогли, начались. Маленькие, но справились, отряхнулись, зажили. Уже поют. И только ты один – несуразный.
Спросишь себя: «Чего тебе надо?» И стыдно сказать, потому что ерунда это вроде…
А надо тебе песню, свою песню тебе надо.
Станешь в памяти искать, чтобы хоть негромко, но спеть.
Загадочная это штука – песня человека. Сквозь столько времён прошли они к нам, русские эти песни. Припомнишь их, грустные все, протяжные. Зачем, зачем они у нас такие? Их не убили революции. Даже пластиковые времена с ними не сладили. Ты идёшь сейчас, сегодня – вон они, в кустах лежат – прозрачные пустые пластиковые предметы… А тебе нужна песня.
И забрезжит в голове что-то про ямщика, но не про того, что замерзал в степи, а про другого, что пел какую-то там… унылую песню. И сбиваясь, путаясь, зазвучит в голове:
«…дорога пылится слегка, и… та-та-та… по ровному полю разливается песнь ямщика. И… сколько грусти в той песне унылой, и… чего-то… в напеве одном, что в груди моей хладной, остылой, разгорелося сердце огнём…»
И от последних этих слов вспомнишь совсем другое, нынешнее.
* * *
Шла я как-то в мае по задам чужой деревни, по узкой тропе вдоль щербатых заборов. Иду, слышу, поёт кто-то, всё ближе, ближе. Огляделась. За забором, на своём огороде, стоит, опершись на лопату, немолодая женщина. Вокруг – грядки, половина уже вскопана, земля сырая чёрными комьями лежит, липкая. Видно, что копать трудно, а копать ещё много надо. Стоит она там, в сапогах, облепленных грязью, и поёт: