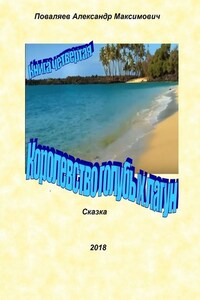И прежние слова уносятся во мгле,
Как черных ласточек испуганная стая.
М. Волошин
В 2… году, в городе Н-ске – такими словами мне хотелось бы начать свой рассказ, утаивая от читателя всякие детали своей биографии, поскольку я – лицо в этой истории постороннее и несущественное, однако… так не получится.
Что ж, вот уже несколько лет, как я читаю курсы лекций о русской поэзии первой половины XX века в одном из учебных заведений Амстердама. Учениками я большей частью доволен, жизнью тоже, и, стало быть, попадаю в категорию одинаково счастливых, и не о чем вообще было бы говорить здесь, если бы однажды я не зашел, коротая пару свободных часов, в Старую церковь и не встретил там Симмонса.
Вообще-то, соборы – не моя страсть, но случаются мгновения, когда в них тянет – ради той самой уворованной связи крови, звона сухоньких трав; тогда я брожу среди могильных плит в полу, бессчетных подсвечников, где теплятся мириады крохотных огоньков надежды, дуг, по которым, будто по темным венам, струится каменная соборная кровь… И, конечно, я меньше всего хочу встретить в такие минуты кого-нибудь знакомого. Пусть лучше будут лица, которые я вижу в первый и в последний раз. Тем не менее, в тот день, всматриваясь в отражение сводов в осколках стекол на полу (в соборе шли ремонтные работы, и жизнь конфессиональная переплеталась в нем с бытием строительной площадки, где вместо органных гармоник пронзительно дребезжали дрели и постукивали молотки), я услышал, как меня окликнули. Я повернул голову и увидел одного из моих бывших студентов.
– Какая удача! – возгласил он. – Вас-то мне и надо!
Сказать, что это был здоровяк, значит не сказать ничего. Его бицепс был в обхвате, как моя цыплячья профессорская грудь, и хотя татуировка на его предплечье, открытом, поскольку на Симмонсе была рубашка с короткими рукавами, состояла всего лишь из черепа и пары костистых крыльев какой-то гарпии, на этом месте вполне могла бы разместиться целая «Герника» или, например, «Последний день Помпеи», если доверить их нанесение хорошему миниатюристу. Лицо его утопало в окладистой чернокудрявой бороде. Большие круглые очки, слегка слезавшие на нос, разрушали, однако, разбойничий образ, да и глаза под ними глядели приветливо.
Не представляю себе, зачем это я нужен Симмонсу. Мы не видели друг друга уже больше года.
– Мне надо с Вами поговорить, – сказал он.
– Хорошо, – ответил я. – У меня есть немного свободного времени.
– Тогда пойдемте выпьем по капучино.
Мы вышли, и Симмонс увел меня в кафе в минуте ходьбы.
– Да, – пробасил он, – давно ли это было, когда Вы учили нас, – и, шумно вдохнув, продекламировал:
– Что, если, вздрогнув неправильно, мерцающая всегда, своей иголкой заржавленной достанет меня звезда?
– Булавкой, Симмонс, булавкой, – поправил я его.
– Ах, да. Хотя почти никакой разницы ведь. Булавка-то, конечно, французская, портновская.
Я улыбнулся и промолчал.
– Так вот о чем я хотел посоветоваться, – заговорил Симмонс, наконец, о деле. – Не знаю только, как объяснить… Ладно, начну с начала.
Против такого подхода я не имел возражений. Какая, все-таки, могучая борода у него! Сам Зевс позавидовал бы ей.
– Сижу я вот в этом самом кафе, работаю. Вы, наверное, не знаете, я сейчас работаю тестером в одной айтишной компании, неважно, впрочем. Так вот, сижу. И вон там, – махнул он в направлении столика, в этот момент пустовавшего, – сидит молодая, а может, и не такая уж молодая, женщина. Трудно сказать, сколько ей. Сидит, тоже чем-то занята за своим ноутом. И я сразу заметил, что ноуты у нас – один в один. А других посетителей рядом нет, только в противоположном углу еще кто-то был.