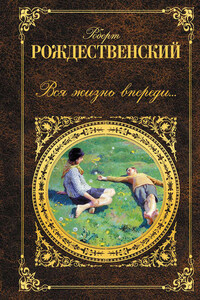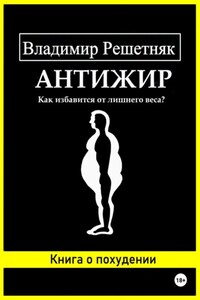Я тебе напишу свою исповедь –
Соловьиным горластым пером.
Я не жил чтоб себе что-то выстрадать
И не смог стать банальным вором.
Я не смог стать простым проповедником,
Хоть прочёл житиё обо всех,
Даже скромным селянским священником –
Ибо чувствую собственный грех.
Бог всё знает, – ему я сознался,
Бог грехи все давно отпустил.
А с тобой я увы оказался
На распутии жизненных сил.
Ты простишь и опять приголубишь,
И прижмёшь как обычно меня.
Ты всё так же, по-прежнему любишь.
Ну а любит ли Боже меня?
* * *
Напишу тебе позднюю исповедь
На нательной рубахе своей
Мне придётся ещё раз всё выстрадать
В этой жизни нелёгкой моей.
Опять в душе возникла пустота…
Опять в душе разлад и пустота,
Я двери распахнул для всепрощенья,
И для детей, для их простого пенья,
Открылись своды, купол и врата.
Опять с душой, как прежде, мы в ладах
И клен зовет осеннею порою,
И манит пятипалою листвою
Поговорить о прожитых годах.
И долго просишь Господа помочь…
И можно вновь кружиться с журавлями
Над Родиной с притихшими полями
И сыпать, сыпать зерна правды в ночь.
Опять душа, что еле грела тело,
Дает возможность Господа понять, —
И ямб с хореем яростно спаять…
О, как же девочка красиво в Храме пела!
Опрокинулся ковшик приятно-осеннего небушка,
И пролились слезинки на мой захудалый мольберт.
Откусив полкраюхи вчера испечённого хлебушка
Как Ван Гог[1] попиваю нездешний, но крепкий «Абсент».
Шелестит мурава, где-то в небе разносятся сполохи.
Я бутылке голландской готов дать полезный совет –
Ну не влезут в мольберт, эти сдобно-ржаные подсолнухи,
Я ромашек в траве для тебя нарисую в ответ.
Шелестит по скулам нудный ветер
И щетину рыжую кукожит.
Не подумай, я совсем не брейтер[2]
И меня добыча не тревожит.
Мне бы стол и мягкую подстилку,
Мне б до марта здесь прокантоваться.
Дайте жмень простых, лесных опилок
И мандат на право оставаться.
Мне бы доковать коням подковы,
Мне бы дописать главу романа.
Я хотел писать уже и новый,
Только ветер дует из кармана.
Я один остался на чужбине,
Мне пришлось здесь дольше задержаться.
Сколько должен я своей Ирине
Сколько за грехи ещё сражаться?
Я хочу домой, мой добрый Ангел.
Ты отсрочь разлуку мне в неволе.
Дал победу в Орлеане Жанне[3],
Дай мне шансы оказаться в доме.
Наплутал я по жизни немерено,
Словно старый шатун из берлог.
Сколько время пустого мной съедено,
Как же пройдено мало дорог.
И застыл поезд – шпалы закончились,
Уголь в топке – давно уж труха.
И тельняшка слиняла и сморщилась,
А в гитаре одна лишь струна.
Новый путь нам прокладывать надобно,
Там где ветер свистит поутру.
Не нужны ни лекарства, ни снадобья —
Нам надежда и дух по нутру.
Ну! С почином отставшие странники!
Дай нам Бог, на благие дела, —
Мы устоев святые охранники,
Правда с нами, и только она.
Мы сегодня решили намоленно,
Что нас ждет одинаковый путь.
Были мысли и что-то оспорено,
Но верна лишь прожитая суть.
Все мы грешники, каины, воины,
Но сумели в конце осознать:
Мы невольники жизни и воины —
Дай нам Бог, отмолить, отстрадать…
Ты плакала на склоне бытия…
И я спугнул ночного соловья,
Что пел нам акапелла целый вечер;
Пока в дому мерцали эти свечи,
Тебе он пел…. И славный птах старался,
Пока весь небосвод не расплескался,
Пока веснушки звезд не собрались
В свой хоровод. И над землей сошлись…
Когда же соловей закончил песнь —
Склевал с моих ладоней корм что есть,
Но не исчез, и не порхнул в полет —
Спикировал в оконный переплет.
И сбросил розу на твою кровать…
Ах, Божья тварь! К чему теперь рыдать?
Ползет по небу мякиш от луны
Давным-давно затерянной горбушки…
Не верят больше сказкам полстраны,
Не верят картам, знахарям, кукушкам.
Давно уж не гадают при свечах,
Не колядуют, будоража села, —
И только тень повисла в деревнях