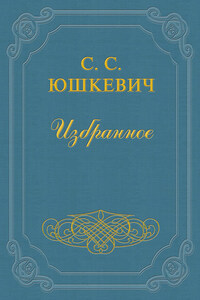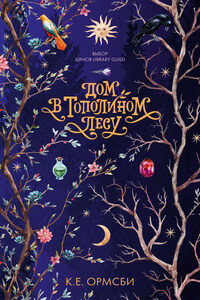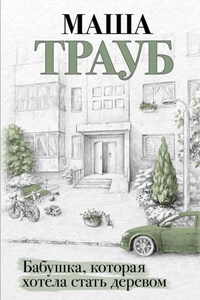Прекрасной души человек был Ириней Гуделкин! Великолепнейшие чувства беспрерывно питал он! Великодушнейшее имел он сердце! И, ко всему к этому, благоговел перед всем прекрасным. Так, например, цвета он уважал не иначе как нежнейшие. Если на нем были панталоны, – они поражали своим палевым отливом; ежели красовался галстук, – он мерцал подобно слабому отблеску поздней зари; сюртучок – отливал искрой по светлому полю. Да и все, что окружало Иринея Гуделкина, носило на себе отпечаток какой-то кроткой и меланхолической изящности. Его домик на манер швейцарского шале с одной стороны и рейнского замка с другой; его миниатюрные конюшенки и оранжерейки, подобные картинкам на лакированных китайских подносиках; его причудливая мебель, драпированная материей нежнейших рисунков; его затейливо исполосованный ножницами садик – все навевало какую-то сладкую негу и повергало вас в тихую и немного приторную истому.
И характер этой милой извращенности распространялся даже на мужиков, работников Иринея. Все они, как на подбор, щеголяли в палевых и голубых рубашечках, лепетали расслабленными и нежными голосами и умывались чисто. Даже собаки в усадьбе Иринея брехали без присущей им грубости, а мягко и деликатно. Самый воздух, витавший над усадьбою, казалось, был переполнен сладостью и задушал ласковым своим благовонием.
Любил я посещать Иринея! Особенно хорошо бывало у него, когда грубая действительность уже чересчур дерзко и аляповато расшевелит твои нервы. Тогда раскрашенные построечки Иринеевой усадьбы, чистый, усыпанный песочком дворик, палевые рубашечки и благоприятные лица рабочих, яркое озеро среди садика и ярко раскрашенный на нем ялик повергали вашу душу в неизъяснимую теплоту. И теплоту эту усугублял сам хозяин. Чистенький, светленький, кроткий, он, блистая свежестью белья и, костюма, сверкая золотом запонок и шикарнейшей цепочки, благоухая тончайшими духами и свежей розой, вдетой в петличку, ласково произносил умиротворяющие речи, мягко и красиво связывал изящные фразы, тихо и плавно лепетал о поэзии, о любви, об искусстве, – о бедрах Венеры Милосской и о лядвиях Бельведерского Аполлона… И душа ваша, истерзанная жестокой суетою, умиротворялась, согревалась, успокаивалась под наитием этой сладкозвучной атмосферы и в конце концов засыпала, как котенок в горячей печурке. Было хорошо, и приторно, и сладко.
Как вероятно и представил себе читатель, Ириней был чистоплотен. Ни как растет хлеб на его нивах, ни как пашут эти нивы и убирают их – он не знал. Для этого был у него человек, Макарыч, – честнейшее и глупейшее существо. Сам же Ириней вечно витал в мире изящнейших представлений и фантастичнейших построек. Чистоплотен он был даже до того, что своими на диво выхоленными руками не прикасался ни к кредиткам, ни к иным каким-либо денежным знакам. Это было дело Макарыча. Ириней же читал книжки, перелистывал кипсэки, перебирал портфели с гравюрами, вел деликатнейшую переписку с двумя или тремя друзьями, людьми высокопоставленными в художественном мире, делал от времени до времени экскурсии в места, известные своею живописностью, и каждый двунадесятый праздник (о наступлении которого докладывал ему Макарыч) устраивал пиршество своей деревне, причем всегда, с лорнеткой в одной руке и с розаном в другой, лебезил около живописных крестьянок.
В нашем краю у Гуделкина не много было знакомых. Соседи по большей части не соответствовали его идеальным представлениям, ибо чересчур уже блистали отсутствием манер. И он был одинок.
Благодаря ли этому, но однажды в его поведении проявилась странность. Явное беспокойство проявилось в его характере. Поступки потеряли свойство невозмутимости, художественное самообладание покинуло, его. Я, подобно многим, стал было в тупик перед таким настроением Иринея, но случай все объяснил мне. Однажды вошел я в кабинет Гуделкина и не застал его. По столам и стульям были разбросаны листы. На каждом было начертано: