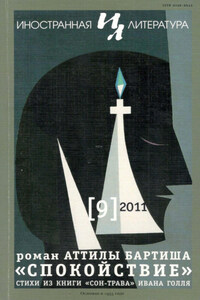Перевод с венгерского Дарьи Анисимовой
© 2001 by Bartis Attila
© Дарья Анисимова. Перевод, 2011
Похороны назначили на субботу, сказали, в первой половине дня в одиннадцать, сначала я думал, стоит подождать несколько дней, возможно, Эстер уже вернется, но замораживание не стали продлевать даже за доплату, женщина в бюро ссылалась на какой-то новый порядок и еще спросила, почему я не хочу кремацию – это и дешевле, и гораздо практичнее, к тому же я смогу выбрать дату, которая подходит всем членам семьи, – я ответил, я не могу сжечь свою маму, тогда уж лучше в субботу, и заранее заплатил за трехдневное хранение, она оформила счет и записала в книгу доставки: семьсот четыре-с-гробом-суббота-Керепеши, затем положила передо мной какие-то бумаги и показала шариковой ручкой, где я должен расписаться.
Когда женщина в бюро предложила кремацию, я невольно вздрогнул, потому что вспомнил мамины судорожные гимнастические упражнения – смотри, вот так они садятся, говорила она и, цепляясь за спинку металлического стула, стоявшего рядом с ее кроватью, показывала, как садятся мертвые в печи, потому что пару месяцев назад она смотрела на эту тему научно-популярную передачу. С тех пор почти каждое утро она демонстрировала мне, как садятся мертвые, а я говорил, успокойтесь, мама, никто вас не сожжет, и осторожно, у вас опрокинется чай, но через несколько дней она снова заводила об этом речь, сынок, кремация – это безбожно, и я знал, она боится, что тот, кого сожгут, уже не воскреснет, и мне это даже нравилось, потому что никогда в этой долбаной жизни ей не было дела до Бога. В итоге она стала требовать от меня, чтобы я поклялся, что она не попадет в крематорий, она запрещает сжигать себя, на что я ответил, что не собираюсь ни в чем клясться, к счастью, она ведь не лежачая больная и вполне может дойти до нотариальной конторы и там получить бумагу, что ее нельзя сжигать, и только тогда она перестала об этом говорить, потому что последние пятнадцать лет она панически боялась выходить из квартиры.
Словом, сперва я представил себе, как она садится – уже в печи, но потом я вспомнил про Эстер, а вдруг она все-таки вернется, мне хотелось, чтобы она увидела это исхудавшее тело, ногти, в последнюю ночь изгрызенные до лунок, узловатые пальцы с семью памятными кольцами: памятное кольцо сезона Юлии, памятное кольцо фестиваля поэзии, памятное кольцо московского фестиваля… фальшивые кольца, с которых ужедавно слезла позолота, и они окрашивали основание пальца в черный или зеленый в зависимости от того, были они сделаны из меди или из алюминия. Я хотел, чтобы она увидела ее липкие от лака соломенно-желтые волосы, на которые из года в год все более причудливо ложилась краска и из-под которых уже просвечивала пепельно-серая кожа головы, я хотел, чтобы Эстер увидела груди, снова тугие от трупного яда, которые мама в свое время, после того как новорожденные сосали их полтора месяца, мазала солью, чтобы укрепить соски, но больше всего я хотел, чтобы она увидела мертвый взгляд – взгляд, ничем не отличавшийся от живого, синее свечение которого, начиная с субботы, будет освещать глубину пятнадцать лет ожидавшей ее могилы, потому что я так и не смог закрыть ей глаза.