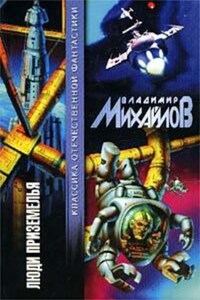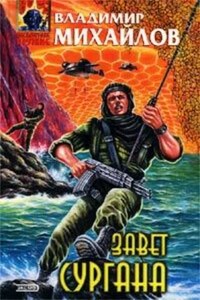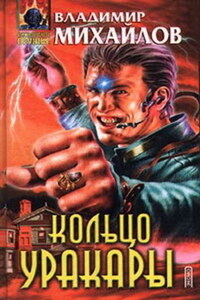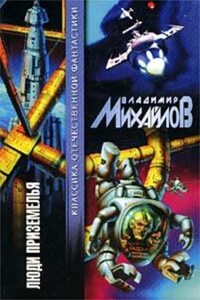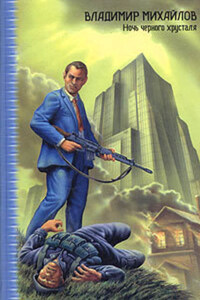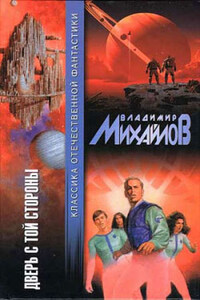На покрывало – черное, усеянное множеством блесток – кто-то капнул бело-голубым. Капля расползалась по черному, заливая все, что видел глаз; вот уже под бело-голубым проступило зеленое и коричневое. Но по-прежнему стояла тишина, пустота лежала вокруг, и это не укладывалось в сознании. Тогда люди оторвались от приборов и экранов и стали глядеть друг на друга, недоумевая. Так они пропустили тот миг, когда капля отвердела и превратилась в выпуклый щит, испятнанный морями и облаками, пересеченный хребтами гор, растолкавших леса. Такое обращение происходит всякий раз, когда приближаешься со стороны светила к планете, населенной водами и лесами.
Расстояние сокращалось, а удивление росло в обратной пропорции. Но изумление не может расти бесконечно, рано или поздно наступает миг, когда оно перерождается в радость или печаль. И вот командир корабля, насупившись, сказал:
– Это не Исток.
Все разом шевельнулись, сами того не желая, но ни один не возразил и не согласился. Лишь главный штурман, человек, известный специалистам повсюду (капитанов знают все, штурманов – только профессионалы, но лишь их мнение и является важным), один он не выдержал тяжести недосказанных слов и проговорил:
– Прокладка правильна.
Он сказал это, как говорят о бесспорном факте, как произнес бы: «Идет четвертый год экспедиции к Истоку, обители старейшей цивилизации из всех, известных нам», или что-нибудь другое, понятное каждому. Но в двух словах, сказанных им, кроме прямого смысла, таился еще и второй, и все безошибочно расшифровали фразу штурмана так:
«Это – Исток. И даже будь в Галактике в миллион раз больше планет, это оказался бы только Исток, и ничто иное».
Командир не стал спорить. Он лишь взглянул на приборы, чьим назначением было обнаруживать искусственные тела в пространстве, тела, по которым узнают об уровне цивилизации точнее, чем из книг. Командир взглянул, зная, что все глаза послушно скользнут сейчас за его взором и увидят то же, что и он. Так и произошло; и все увидели, что приборы дремлют, не находя ничего, на чем стоило бы задержаться их неустанному вниманию. Командир перевел взгляд на аппараты, обученные всем языкам, на которых говорят населенные планеты; но и эти чуткие устройства молчали, не слыша ничего. Затем командир обратился к экрану, на котором планета повертывалась, нежась, и безмятежно позволяла разглядывать себя, словно ребенок, которому неведом стыд. Все повторили его движение – и увидели горы, и леса, и лениво струящиеся реки, и ослепительные моря, и местами – пухлые подушки облаков, – и ничего больше. Ничего, что носило бы следы разума. Только после этого все вновь посмотрели на хранителя курса.
Штурман передернул плечами под тонким комбинезоном и бессознательно шагнул вперед, чтобы уйти от скрестившихся на нем взглядов. Он приблизился к экрану, чей матовый диск упорно показывал, что у планеты нет тайн. Не было тайн, не было дорог и городов; планета ничем не могла порадовать прибывших с визитом. Это было непереносимо; штурман оперся рукой о панель экрана, приблизил лицо к тепловатому стеклу и поднял другую руку с просьбой, может быть, пощады, но все поняли – тишины. И взгляды умолкли; как это часто бывает, на краткий срок возобладала вера в то, что стоящий ближе всех к экрану видит больше, чем остальные, и, значит, видит истину. На самом же деле штурман не видел и не мог видеть ничего нового, но наступившая тишина позволила ему справиться с сомнениями.
– Ну что, штурман? – услышал он через мгновение. Это спросил командир, твердо знающий, что не годится ему слишком долго молчать, и еще менее позволительно – не знать и не видеть чего-то, что тут же, у всех на глазах, заметил другой. – Что там? Непохоже на цивилизацию, правда?