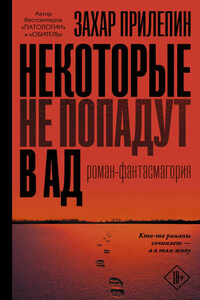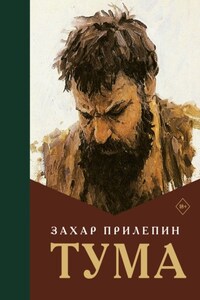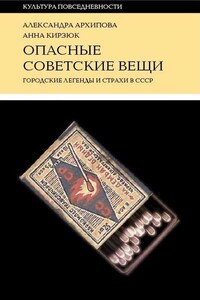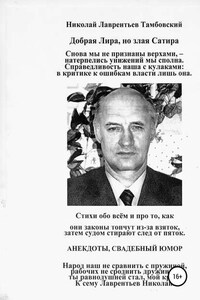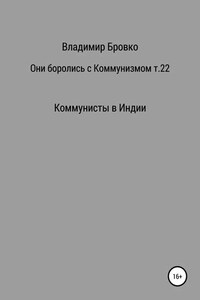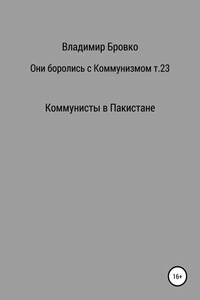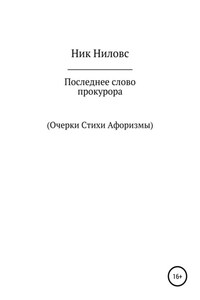Первые деньги, последняя строчка
Я учился в школе и писал стихи. За окном наблюдалась перестройка.
Перестройку я запомнил, как непрестанную осень: словно природная и умственная слякоть объяла всё. Люди бегут по леденеющим лужам, взбивая грязный, отвратительный снег. Ужасно болит голова: от шума, от гама, от топота, от грохота, от всего сущего.
Моя семья жила в хрущёвке, на пятом этаже, где за вечно закрытыми шторами, обложенный книжками стихов и виниловыми пластинками, обитал я.
Читал и слушал, слушал и читал.
К отцу приходили друзья – я помню то странное и удивительное время, когда советские люди заходили друг к другу без звонка, и даже не по причине наличия бутылки того или иного напитка, а просто в силу желания поговорить, поспорить, поделиться новостями.
Как минимум трём отцовским друзьям я пел под гитару песни – Башлачёва, Летова, Гребенщикова, Кинчева и свои. В 1989 году люди отцовского – первого послевоенного – поколения таких песен знать не знали. Им странным образом нравилось. Они выпивали – я в этом не участвовал – и снова звали меня: а спой.
Я с удовольствием пел. Хотя не очень умел.
Но стихи у меня получались ничего так. Я мечтал стать поэтом.
Тогда ещё существовала такая профессия – «поэт». Поэты были элитой. В газетах и журналах за одну публикацию им платили месячную зарплату рабочего. Книжки даже самых средних поэтов раскупались. Книжки поэтических звёзд – а их было на страну десятка два-три – продавались теми тиражами, которыми сегодня продаются здесь «50 оттенков серого», а то и бо́льшими.
Поэтом я хотел быть вовсе не по причине тиражей и не из детской зависти к оглушительной славе какого-нибудь Евтушенко, – а просто меня больше ничего так не интересовало, как поэзия, как музыка, как сочетания слов, которые вдруг дают поразительный или поражающий эффект.
Короче, как-то раз, без моего ведома, один из отцовских товарищей взял несколько моих стихотворений и передал редактору одной местной газеты.
Вернулся я из школы, а меня этот самый отцовский друг встречает у дома, счастливый донельзя: «Поздравляю с первой публикацией!»
Не знаю, как сейчас люди воспринимают первую публикацию, – а тогда это было что-то из области недосягаемого: увидеть свои буквы, свои слова – пропечатанными.
Сам статус не только книги, не только журнала, но даже газеты – был феноменально высок.
Вспомните, что Владимир Семёнович Высоцкий, собиравший стадионы на своих концертах, сыгравший в тридцати фильмах, работавший в самом популярном театре на Таганке, имевший второй на весь СССР «Мерседес» (первый был у Брежнева, а третьего не было ни у кого), женатый на французской актрисе, имевший возможность выезжать и выступать за границей, – этот самый Высоцкий всю жизнь горевал, что его стихи не публикует советская пресса.
Какие-то, тьфу, газетки! Какие-то, боги мои боги, нелепые, бумажные журналы! Что это вообще – на фоне его небывалой, аномальной, невозможной, немыслимой, аналогов не имеющей славы и удачливости? Вообще ничего! И, тем не менее, горевал.
Советская власть приучила людей верить в необычайную силу печатного слова.
(Постсоветская, забегая вперёд, вообще разучила верить в печатное слово, – и это, увы, тоже достижение.)
Но я ничего такого в пятнадцатилетнем возрасте даже предположить не мог, и пришёл от новости в полный восторг.
Мои! Стихи! В газете!
Вида, конечно, не подал – но внутренне был преисполнен ликования.
По осенней слякоти мы сначала ехали в какой-то недалёкий городок на рейсовом автобусе, а потом шли пешком.
Я даже забыл название этого городка, вот ведь.
В редакции я сразу увидел эту газету, и стремительно нашёл свои стихи: верней, одно.