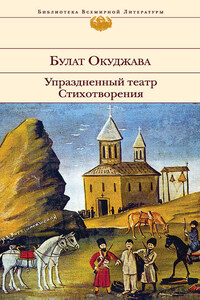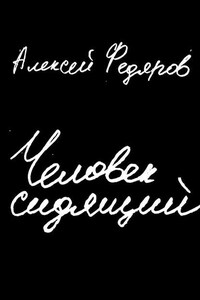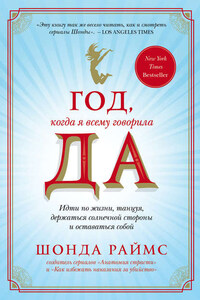Я родился в 1924 году, 9 мая, у Грауэрмана, на Арбате. Первая моя квартира – дом 43. Квартира на 4-м этаже, средних размеров по коммунальным масштабам, 5 соседей. Раньше это была квартира фабриканта Каневского, нэпмана. После нэпа он был директором своей же фабрички. А потом уехал во Францию с семьей.
Отец мой был прислан в комакадемию из Грузии учиться. На Арбате ему дали две маленькие комнатки в той коммуналке. И мать жила с нами. После моего рождения отца отправили обратно на Кавказ. Он продолжал работать комиссаром грузинской дивизии. А мама работала в аппарате горкома партии здесь.
А потом пришло время мне учиться. И меня отправили в Тбилиси, где я поступил в первый класс. Это был такой странный первый класс, где были экзамены по-русски. На экзамене каждому давали табличку, на табличке был нарисован лабиринт. В центре лабиринта – колбаса, а снаружи мышка, нужно было найти кратчайший путь до колбасы. О Пушкине мы не слышали ничего, Пушкин не существовал, Лермонтов не существовал, Тургенев не существовал, Толстой не существовал. Все они были помещики.
Потом отец работал уже секретарем Тбилисского горкома партии. У него были нелады с Берией, очень серьезные. И дошло до того, что отец мой поехал в Крым, к Серго Орджоникидзе, и попросил направить его на работу в Россию, потому что в Грузии он работать не мог. И Серго отправил его на Урал. Парторгом ЦК на вновь строящийся в первой или второй пятилетке вагоностроительный завод.
Вот в 1932 году отец отправился на Урал – там еще была дикая тайга и несколько бараков. А потом выписал и нас. Я жил там, учился до ареста отца. До февраля 1937-го.
Мы вернулись в Москву. Опять в эти же две комнаты. Мать, конечно, исключили из партии тут же. Она устроилась кассиром в какую-то артель. И занималась тем, что в свободное время бегала, добивалась приема у Берии, чтобы сказать ему: «Ты же знал его по работе, он не может быть троцкистом или английским шпионом». Она добивалась, добивалась до тех пор, пока не пришли однажды ночью и не забрали ее тоже.
Я остался с бабушкой. В это время был уже брат. Он родился в 1934-м. Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Учился я плохо. Курить начал, пить, девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка в отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался с темными ребятами. Как я помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая.
Я был политический мальчик. И я знал, что мои родители – такие коммунисты, каких не бывает вообще в природе. Произошла ошибка какая-то. И когда это до Сталина дойдет, он все исправит.
В конце 1940 года тетка решила меня отсюда взять. Потому что я совсем отбился от рук, учиться не хотел, работать не хотел. Я приехал в Тбилиси перед самой войной.
Потом война. Я, конечно, начал бомбардировать военкомат. С приятелями мы требовали, чтобы нас забрали в армию.
Мы охаживали капитана Качарова. Он сначала орал на нас, топал ногами, потом привык и, чтобы отвязаться, поручил повестки разносить. Мы ходили по дворам. Нас били за эти повестки, бывало. Горесть приносили.
Потом я ушел из школы. Работал на заводе учеником токаря. Занимался ровировкой стволов огнемета. Что такое ровировка, до сих пор не знаю. Что-то тяжелое мы делали изо дня в день, из ночи в ночь, по 14–16 часов безвылазно…
* * *
Я все ходил и ходил к военкому, надоедал. Наконец, этот Качаров не выдержал и сказал: «Вот вам повестки». Мы сели и сами себе их написали.
Мне было 17 лет. Тетка моя всполошилась, сказала, что пойдет в военкомат, что все перевернет, что это безобразие. Я ей сказал: если она пойдет, я убегу из дома.