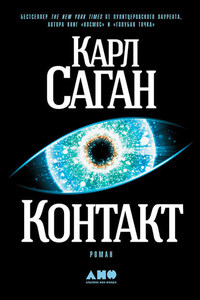На сцене почти темно. Огни рампы давно погасили, софиты тоже не горят, но кто-то забыл выключить одинокий прожектор. Он стоит совсем близко, а потому выхватывает из океана мрака только крошечный островок не больше двух шагов в диаметре. Со всех сторон доносится приглушенный гул и грохот, очень отдаленный, не такой, от которого начинает болеть голова. Просто фоновый шум, и все. И если закрыть глаза, можно представить, будто вокруг, и правда, беснуются волны; и только маяк на забытом всеми богами острове напоминает мореходам: есть вещи, которые останутся неизменными, даже если в один прекрасный день мир исчезнет. Исчезнут чайки, исчезнут рыбацкие лодки, береговые утесы и пристани; исчезнут порты, а с ними – портовые шлюхи и кабацкие песни; девушки, что плачут одинаково безутешно, встречая и провожая своих возлюбленных в море; толкотня, чемоданы, неловкие прощания, клетки с птицами, клятвы, торговцы жемчугом… Все исчезнет. Останется только этот остров, маяк и смотритель. Да, пожалуй, что так. Смотрители маяков последними на земле узнают о конце человечества, такие уж они люди.
Но он сейчас думает не о море. Тот человек, что стоит в крохотном пятнышке света. Он стоит спиной к залу, а потому лица его не видно. У него короткие темные волосы. Он смотрит на полуразобранные декорации, на застиранный задник, реквизит, который после спектакля так и не убрали, не двигается и, кажется, разговаривает сам с собой. Негромко, но из-за того, что зал пуст, слова звучат отчетливо. Иногда он обрывает фразу на середине и замолкает, будто слушает ответ невидимого собеседника, а иногда его монолог длится довольно долго. Если бы вы увидели его здесь днем ранее, то подумали бы, что он репетирует роль. Вот только овации уже отзвучали несколько часов назад.
Внезапно человек наклоняется и поднимает что-то с пола. Предмет издает легкий шорох – похоже, это лист бумаги.
– Она сказала, что не знает, когда мы еще увидимся… Она, должно быть, хотела у меня что-то попросить, но не решилась. Повернулась и ушла. Теперь я об том все время думаю…1 – бормочет мужчина, и голос его звучит так, будто он находится в каком-то забытьи, потом он вдруг стряхивает с себя наваждение и добавляет уже более обыденным тоном: – Да, прошу прощения, я думал, вы еще… это из пьесы, которую они сегодня… В общем, не важно. Разрешите продолжать? Так вот, насчет Драматурга… Разумеется, он даже не отрицал свою вину. Они придумали эту схему как минимум пять лет назад. Он и Ростислав. Им нужны были рычаги давления, чтобы остаться на плаву в случае чего, но мне непонятна логика Драматурга. Он не хочет отпустить их. Это был бы разумный обмен, и, справедливости ради, мы бы ему уступили, хотя бы в самом начале. Но, боюсь, они и сами не захотят – он снова замолкает, прислушиваясь, потом решительно заявляет: – Нет, при всем моем уважении, вы не знаете! Потому что вы – там, а я – здесь. Драматург создал идеальный мир. Я имею в виду, с точки зрения промывки мозгов. Если люди узнают правду, это будет равносильно сожжению чучела Большой «Ч» посреди атриума. Нет, нет, у них нет чучела, – торопливо поясняет мужчина, – это фигура речи. Но, поймите, нельзя так просто лишить их веры, как нельзя заменить одну идеологию другой в мгновение ока.
На этот раз повисает долгая пауза. Потом мужчина устало вздыхает:
– Если только детей. Некоторые линии вполне удачны. Их просто нужно воспитать в соответствующем ключе, и получится то, что нам нужно.