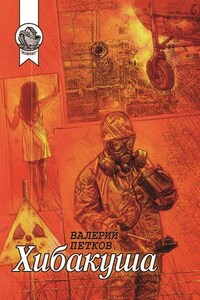– Придешь обедать в воскресенье?
– Не смогу… Работа.
– Даже в воскресенье? Porca miseria![1]
Не люблю, когда он нервничает, наш патриарх. Но еще меньше люблю таскаться сюда в воскресенье, когда предместья словно оживают, особенно у входа в церковь или тотализатор. И то и другое я стараюсь обходить, с опасностью удлинить себе дорогу, но только бы не протягивать смущенно свою руку людям, которые знавали меня еще мальчишкой, а теперь задаются вопросом: преуспел ли он в жизни? Итальянцам всегда любопытно, что сталось с другими.
– Ладно, попробую заглянуть в воскресенье.
Отец качает головой, давая понять, что ему на это, в конце концов, наплевать. Вскоре ему предстоит уехать в санаторий – лечить свою ногу. На целый месяц, как и каждое лето. И он, понятно, хотел бы повидаться со мной еще разок до отъезда. Как и любой другой отец, впрочем.
Мать, по обыкновению, помалкивает. Но я-то знаю, что стоит мне переступить порог родительского дома, как она закричит сверху на всю улицу:
– Если будет холодно, включай отопление!
– Да, ма.
– И не очень-то шляйся по ресторанам там, в Париже! Если есть грязное белье, принеси в следующий раз.
– Да, ма.
– И поосторожнее вечером в метро.
– Да…
– И еще…
Что там «и еще» я уже не слышу, я за пределами досягаемости. На меня лает собака Пьянетты. Я сворачиваю на пологий спуск, что ведет к автобусу, автобус – к метро, а метро – ко мне домой. В Париж.
И вдруг здесь, наверху, у дома, с которого начинается наша улица, слышу голос, который пробуждает во мне воспоминания более реальные, чем любой запах.
– Проходишь мимо, будто чужой, Антонио…
Да я бы и не смог узнать его по запаху, теперь он благоухает дорогим одеколоном. Все-таки забавно вновь увидеть его здесь – такого же упрямого и неподатливого, как этот уличный фонарь, который он подпирает и который мы в детстве безуспешно пытались своротить ударами булыжников после уроков катехизиса.
– Дарио?.. – спрашиваю я, словно еще надеясь на что-то другое.
И как он только умудрился после стольких лет сохранить это лицо влюбленного ангела. Он даже похорошел. И кажется, вставил себе зубы, которых ему недоставало еще в восемнадцать лет.
– Твоя мать сказала, что ты иногда заходишь пообедать.
Мы обходимся без рукопожатия. Кстати, я даже не знаю, жива ли еще его собственная мать. Да и о чем, в сущности, могу я спросить его? Разве что о его делах? Почему бы и нет. Итак, Дарио… Как ты тут? Вот такой же… такой же… итальянец? Что у тебя еще спросишь…
Из всей нашей тогдашней компании он, Дарио Тренгони, был единственным, кто родился еще там, между Римом и Неаполем. Ни двое последних братьев Френчини, ни сын Куццо, ни я сам не могли этим похвастать. Мои родители хоть и зачали меня, как и положено итальянцам, на юге, но только на юге Парижа. И даже тридцать лет спустя они так и не научились как следует изъясняться по-французски. Дарио Тренгони, впрочем, тоже. Но он-то делал это нарочно. И напрасно старалась коммуна Витри-сюр-Сен: школа, пособие, вид на жительство, социальное обеспечение – все впустую. Он к Франции как таковой не желал приобщаться, не желал вживаться в нее, и все тут. Он предпочитал развивать в себе именно все то, что я сам пытался изжить. И ему это удалось – он превратил себя в карикатуру на итальянца, в этакого «итальяшку», экспортного vitellone